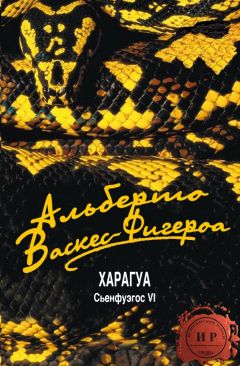Он будто не чувствовал боли, а также жажды или усталости, лишь страх, что не сможет вовремя взять под контроль собственный разум, превратившийся в машину, способную лишь двигать тело вперед.
Деревья тянулись к нему, словно огромные дружеские руки, будто стремясь защитить, и на миг он поверил, что судьба наконец сменила гнев на милость.
Сьенфуэгосу понадобилось более двух часов, чтобы восстановить силы.
Несмотря на то, что он упорно пытался идти вперед, ноги отказывались служить; видимо, долгий бег отнял все силы, и в итоге он был вынужден прислониться к дереву, рассеянно глядя в ту сторону, где возвышалась вершина высокой горы, куда он непременно должен вернуться. Как ни старался канарец собрать в кулак всю свою волю — увы, колени снова и снова подкашивались.
— А ну вставай! Вперед! — подгонял он сам себя, ухватившись за толстую ветку и помогая себе встать. Но едва он выпустил ее из рук, как снова рухнул мешком, будто ему подрезали сухожилия.
Это продолжалось до тех пор, пока из кустов неожиданно не выбрался броненосец с острой мордочкой и веселыми глазами, дважды фыркнул, пошевелив смешными ушками, без всякого страха наблюдая за измученным Сьенфуэгосом — видимо, тот казался ему чем-то вроде большой деревянной куклы, неподвижной и совершенно безопасной, поскольку зверь, забыв об элементарной осторожности, без всякого почтения принялся слизывать кровь с израненных ног человека.
Канарец пребывал не в том состоянии, чтобы испытывать к кому-либо жалость; и хотя он все же ощутил мимолетный укол совести за то, что вынужден обмануть доверие безобидного животного, но все равно протянул руку, как если бы собирался пожать зверьку лапу, и, крепко ухватив за костяной панцирь, в мгновение ока свернул ему шею.
Почти не сдвинувшись с места, он смог развести костер и водрузил на него тушу несчастного животного, а потом поддерживал несильный огонь, перевернув ее на спину, чтобы зверь зажарился в собственном соку в импровизированной сковородке-панцире, таков был вкуснейший рецепт купригери.
Плотный завтрак помог восстановить силы и вновь почувствовать себя живым, так что вскоре канарец сумел даже сделать несколько шагов, однако прошел целый час, прежде чем он отправился в обратный путь.
Он собрал валяющиеся вокруг сухие ветки, стянул их крепкими лианами в две огромных вязанки, выгреб яйца из найденных гнезд, не задумываясь о том, каким птицам они могут принадлежать. Больше всего Сьенфуэгосу повезло, когда он наткнулся на двух спаривающихся черепах; он связал им лапы и подвесил за шеи, как пару старых сапог.
— Хватит и на сегодняшний ужин, и на завтрашний обед, — усмехнулся он, потирая руки.
Правда, с таким тяжелым грузом он не мог бежать, и холод стал еще более страшным врагом, чем прежде; Сьенфуэгос взял из костра самую яркую головешку и отправился в дорогу, решив во что бы то не стало вернуться в пещеру до наступления темноты, несмотря на то, что ступни примерзали к земле.
Как ни труден был предыдущий бег, лишивший канарца последних сил, но обратный путь мог бы остаться в хрониках Нового Света как один из самых славных, но при этом безвестных подвигов; ведь едва ли кто-либо мог наблюдать, как хромающий гигант, задыхаясь и обливаясь потом, и при этом стуча зубами от холода, из последних сил бредет против ветра, шатаясь под его неудержимым напором и гадая, хватит ли у него сил сделать следующий шаг.
Да и сам Сьенфуэгос вряд ли отдавал себе отчет в том, перед каким вызовом оказался, поскольку все события того кошмарного дня остались в памяти туманным пятном, возможно по той причине, что он бессознательно пытался их забыть, или же потому, что вся энергия ушла на мышечные усилия, не осталось сил даже записать в памяти воспоминания.
Словно в каком-то ночном кошмаре он боролся со снегом и ветром, хотя и не осознавал, что является частью этого жуткого сна, не чувствовал боли и усталости, думая лишь о том, как достигнуть цели, и все демоны ада не смогли бы его остановить.
Время от времени он подносил факел к груди, чтобы немного согреться, а когда тот догорел, зажег одну из толстых веток, которую вытащил из вязанки. И хотя это приносило некоторое облегчение, некоторые части его тела рисковали получить ожоги, в то время как другим грозило обморожение.
К счастью, снег прекратился, хотя небо было по-прежнему затянуто тучами, темными и угрожающими, а ноги вязли в снегу. Сьенфуэгос постарался выкинуть из головы абсолютно всё и сосредоточился только на том, чтобы продвигаться вперед. На него не действовала даже нехватка кислорода, он превратился в настоящую машину, предназначенную только для ходьбы и ни для чего другого.
Он пытался не думать ни об Ингрид, ни о негритянке — возможно, считая, что это неподходящий момент для подобных мыслей — казалось, если он позволит им двинуться в неверном направлении хоть на секунду, то подвергнет опасности саму суть своего существования.
Как ни странно, его поддержала старинная песня, которую распевала вся команда «Галантной Марии»; ее примитивная и потому неотвязная мелодия, которую моряки выводили хором, действительно очень помогала им во время самой трудной работы, когда они убирали тяжелые паруса или налегали на весла, когда корабль замирал на месте во время мертвого штиля. При этом было в мелодии нечто такое, что заставляло повторять ее бесконечно, изгоняя из головы всякие другие мысли.
О, Тринидад, предо мною расстилается синее море,
И то же синее море смыкается за кормою.
Плыву я с попутным ветром,
Что ласково дует в спину.
Как разнится все в этом мире,
И все при этом — едино.
И где бы меня ни носило,
Твой голос зовет меня вечно.
О, Тринидад, неважно, куда занесет меня ветер
И что меня там ожидает,
Неважно, куда я прибуду,
Какие там ждут меня беды.
Мне важно одно лишь море
До самого горизонта
И вкус соленого пота,
Еще мне на свете важно твое прекрасное имя...
О, Тринидад, предо мною расстилается синее море,
И то же синее море смыкается за кормою...
Никто не знал, кем была та загадочная Тринидад из старинного романса, который влюбленный рулевой напевал с первой ночи, держа курс на далекую звезду; но, так или иначе, эта неприхотливая мелодия имела свойство неотвязно застревать в мозгу, подобно щупальцам осьминога, не отставая целыми днями, и канарец Сьенфуэгос хорошо помнил, какая беспомощная ярость охватывала мастера Хуана де ла Косу всякий раз, когда он слышал эту песню, зная по опыту, что теперь точно не сомкнет глаз по вине этой неотвязной Тринидад, которая снова и снова будет вертеться у него в голове, не давая заснуть.