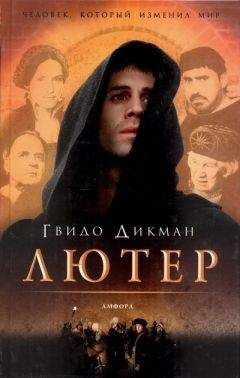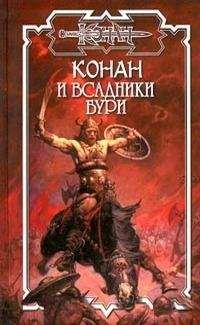— Deus qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti…
Голос его рождал эхо под церковными сводами, подчеркивая важность священного момента. Мартин взял в руки два золотых сосуда и налил в чашу сначала вина, потом — немного воды. Щеки у него раскраснелись — настолько он был сосредоточен, руки едва заметно дрожали, когда он поднимал золотую чашу. Сияющий металл отразил его собственное, слегка искаженное лицо.
— …da nobis per huius aquae et vini mysterium, eius divinitatis esse consortes…
Он вытянул руки с чашей вперед и взглянул вверх, на деревянные своды церкви. Ему хотелось, чтобы своды раздались перед его взором и ему открылся бы кусочек неба. И он смиренно продолжал:
— …qui huminitatis nostrae fieri dignitatus est particeps… particeps…
Мартин в испуге запнулся, чаша в его руках отяжелела, словно пушечное ядро. Он заметил, как какой-то монах толкнул своего соседа. У того уголки рта презрительно опустились вниз. Насторожился и главный викарий. Он ободряюще кивнул Мартину, но и милостивая снисходительность викария не помогла. В голове у Мартина роились сотни мыслей, затуманивая те самые латинские слова, которые еще несколько часов назад столь легко слетали с его уст, словно он всегда только и занимался — превращением обыкновенного вина в кровь Христову. Внезапно руки у него задрожали так сильно, что драгоценное церковное вино стало выплескиваться через край чаши. Оно окропило пальцы Мартина и закапало на белоснежное покрывало алтаря. Один из монахов, следивший за порядком в ризнице, подскочил к нему, чтобы поддержать чашу и предотвратить грозящее несчастье. Но было слишком поздно.
— Jesus Christus, Filius tuus… — сердито зашептал ризничий Мартину. — Слышишь? Продолжай же!
Мартин прерывисто дышал, но все же нашел в себе силы повиноваться.
— Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster; Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti…
Не вдумываясь в смысл произносимых слов, Мартин торопливо довершил молитву. Сияние свечей, запах ладана и даже голоса братьев внезапно показались ему незнакомыми и какими-то нереальными. Он обреченно уставился на могильную плиту перед алтарем, где покоились останки одного из знаменитых настоятелей этой церкви. И только уже поднося к губам чашу с вином, он окончательно понял, что с позором провалился.
В укромном уголке ризницы Мартин сорвал с себя длинный стихарь, словно переливающееся всеми цветами радуги роскошное одеяние было объято пламенем. Он задыхался. При мысли о том, что его первый выход в качестве священника был неудачен и он выставил себя дураком перед отцом и перед господами советниками из магистратов Эрфурта и Мансфельда, краска стыда залила его лицо.
Трясущимися руками он наполнил водой глиняную кружку, покрытую голубой глазурью, и, расплескав половику, все же в конце концов сделал несколько жадных глотков. Он все еще чувствовал горечь неудачи, но вода немного освежила его. Внезапно в дверях появился старый монах.
— Отец ваш покинул храм, брат Мартинус, — произнес он с оттенком сочувствия.
Заметив драгоценное облачение, которое молодой священник небрежно бросил на скамью, он поднял его и с безмолвным укором сдул невидимые пылинки с золотой каймы.
Через узкую дверь Мартин вышел из ризницы и в своем длинном одеянии, развевающемся на ветру, поспешил к конюшням, которые примыкали к хозяйственным службам ордена августинцев. Еще издалека он увидел, как трое работников подводят к группе гостей оседланных лошадей. Работники обнажили головы и низко склонились перед господами в ожидании вознаграждения. Мартин торопливо пробежал мимо них, пряча по-прежнему дрожавшие руки в глубоких складках рясы. Среди хорошо одетых господ выделялась величественная фигура отца. Ханс Лютер был в теплом камзоле из сукна темно-красного цвета. На груди были нашиты полоски кожи, а широкий ремень с медной пряжкой в виде ястреба стягивал камзол на бедрах. Черная суконная шапка, закрывающая уши и надежно защищавшая от ветра и дождя, почти полностью скрывала седеющие волосы. Увидев сына, который, бежал к нему, путаясь в полах грубой рясы, Ханс Лютер лишь на секунду замер в нерешительности, а затем быстро вскочил в седло.
— Отец, прошу вас! — в смятении крикнул Мартин. — Может быть, останетесь, по крайней мере на обед?
Он беспомощно смотрел, как сразу двое спутников Ханса Лютера сунули в руки конюхам несколько монет, крикнув, что пора отправляться. Не удостоив взглядом ни Мартина, ни кого-либо из братьев, всадники развернули лошадей перед воротами, где наготове стоял монах-привратник.
— Отец! — Мартин предпринял последнюю, отчаянную попытку остановить человека на вороном коне. — Нам ведь так много надо обсудить!
Проблеск надежды мелькнул у него в глазах, когда Ханс Лютер отпустил поводья и оглядел Мартина с головы до ног. Но каменное выражение лица старшего Лютера, его надменно выставленный подбородок лучше всяких слов сказали Мартину — сказали еще прежде, чем отец успел выпрямиться и расправить плечи, — что он безнадежно упустил последнюю возможность выяснить отношения.
— Обсудить, обсудить! — передразнил его Ханс Лютер. — Во время службы у тебя была прекрасная возможность всё сказать! Но в самый решительный момент ты в штаны наделал со страху. Как мне теперь отцам города в глаза смотреть, они ведь самолично прибыли, чтобы присутствовать на твоей службе! Их злорадные россказни сделают меня теперь посмешищем всего Мансфельда.
Мартин сжался, словно под ударом бича. «Отец стыдится меня», — устало подумал он, когда до него дошло, что тот разговаривает с ним как со школяром. Угрюмо глядя на сына, Ханс Лютер натянул поводья — лошадь нетерпеливо перебирала ногами. Резкий порыв ветра погнал по двору опавшую листву и закрутил ее в дьявольскую воронку, подметая неровную булыжную мостовую.
— Ты хоть раз задумался о том, откуда взялся кашель, который начинает меня мучить каждый год после Дня всех святых?! — в гневе прокричал отец. — Я уж молчу о том, что мне пришлось гнуть спину на медных рудниках, только для того чтобы выучить тебя в латинской школе. И не вспоминаю, как чума наведалась в наш дом и унесла двух твоих невинных братьев, — никакой лекарь не мог им помочь!
Мартин сжал зубы, глаза у него саднило от песка, который летел ему в лицо. Грубую ткань рясы полоскало ветром, она мешала молодому монаху поспевать за шагом вороного.
— Я, может, не так сильно разбираюсь в Священном Писании, как ты и вся твоя ученая братия, — прокричал Ханс Лютер, — но одну из десяти заповедей я знаю назубок: «Чти отца своего и мать свою» — так там сказано. И ты нарушил эту заповедь для того, чтобы сидеть здесь во мраке, взаперти да языком молоть… о божественном!