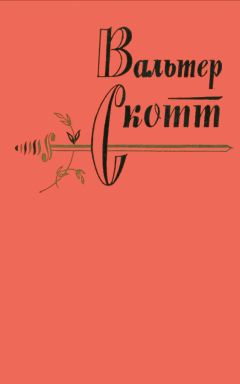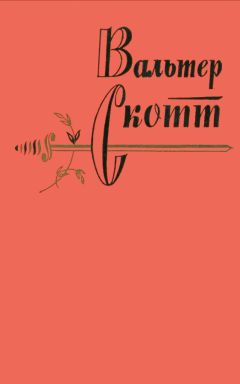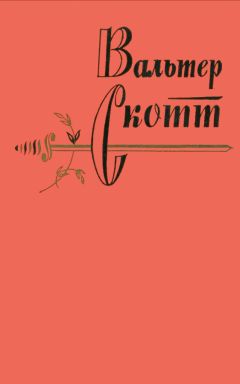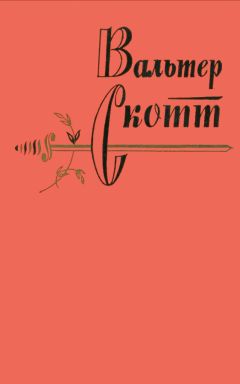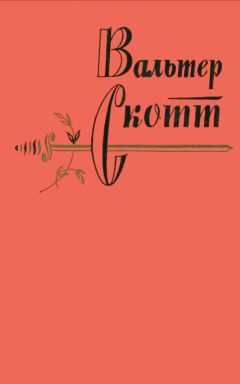Незадолго до воцарения Роберта III, при его предшественнике, одна лишь красота позволила особе низкого рождения и сомнительной нравственности разделить с королем шотландский престол. И многие другие женщины, менее ловкие или не столь удачливые, начав свой жизненный путь наложницами, достигали высокого положения, — что допускалось и оправдывалось нравами тех времен. Такие примеры могли бы вскружить голову и девице более высокого рождения, чем Кэтрин, или Кейт, Гловер, которая была всенародно признана красивейшей из молодых обитательниц города и окрестностей и чье звание «пертской красавицы» неизменно привлекало к ней взоры юных щеголей, когда королевскому двору случалось обосноваться в Перте или поблизости от него, и добавим, что иной высокородный дворянин, прославившийся воинскими подвигами, так старался щегольнуть красивой посадкой в седле, проезжая по Кэрфью-стрит, мимо окон Саймона Гловера, как не домогался бы победы на турнире, где его искусство могли оценить самые высокородные дамы Шотландии.
Но дочь Гловера-перчаточника (ее отец, как было принято в ту пору среди горожан, получил фамилию по своему ремеслу) не слушала любезностей, которые расточали перед ней вельможные поклонники. И хотя Кэтрин сознавала, конечно, свою привлекательность и не так уж была равнодушна к ней, она стремилась, как видно, одерживать победы только над людьми своего круга. Обладая красотою совсем особого рода! — той, что мы связываем больше с духовной, нежели с телесной сущностью, — она при всей природной доброте и милом нраве казалась скорее замкнутой, чем веселой, даже когда находилась среди равных, а глубокое чувство, с каким отправляла она долг благочестия, наводило многих на мысль, что Кэтрин Гловер затаила желание удалиться от мира и схоронить себя в монастырских стенах. Но если и были у нее подобные мысли, едва ли следовало ожидать, что ее отец, слывший человеком состоятельным и не имевший других детей, с легкостью согласится на такую жертву.
Зато в своей суровости к придворным рыцарям признанная Пертом королева красоты встречала полную поддержку со стороны отца.
— И не гляди ты на них! — говорил он ей. — Не гляди на них, Кэтрин, на этих щеголей! Ну их всех с их резвыми конями и бряцаньем шпор, с их перьями на шляпах и холеными усами! Они не нашего сословия, и не пристало нам родниться с ними. Завтра день святого Валентина, когда каждая птица выбирает себе подружку, но ты не увидишь, чтобы коноплянка свила гнездо в паре с ястребом-перепелятником или малиновка — с коршуном. Мой отец был честным горожанином Перта и владел иглой не хуже, чем я. А случалось подступить войне к воротам нашего славного города, мы откладывали в сторону иглу, и нитки, и замшу, доставали из укромного уголка добрый шлем и щит и снимали со стены над камином длинное копье. Назови мне тот день, когда мэр созывал ополчение, а я или мой отец не явились бы в строй! Так мы жили, девочка моя: трудились, чтоб заработать свой хлеб, и сражались, чтоб защитить свою жизнь. Не нужно мне зятя, который будет мнить о себе, что он лучше меня, а что до лордов и рыцарей, так запомни хорошенько: ты слишком низко стоишь для их законной любви и слишком высоко — для их беззаконной прихоти. А теперь отложи-ка свою работу, дочка, потому что нынче канун святого праздника и нам пора в церковь на вечернюю службу — помолимся, чтобы господь послал тебе завтра хорошего Валентина.
Красавица отложила великолепную перчатку для соколиной охоты, которую вышивала по заказу леди Драммонд, и, надев праздничное платье, приготовилась сопровождать отца в монастырь доминиканцев, примыкавший к Кэрфью-стрит, где они проживали. По дороге Саймон-перчаточник, исконный и почитаемый горожанин Перта, с годами несколько отяжелевший, важно принимал от встречных, и молодых и старых, подобающую дань уважения к своему бархатному полукафтанью и золотой цепи. Равно и перед признанной красотой его дочери, хотя и спрятавшейся под покров скрина [4], склонялись, обнажая головы, и старые и молодые.
Отец и дочь шли рука об руку, а по пятам за ними следовал высокий, стройный юноша в одежде йомена, самой простой, но выгодно обрисовывавшей его изящный стан, тогда как шотландская алая шапочка как нельзя лучше шла к его красивому лицу в рамке густых кудрей. При нем не было другого оружия, кроме трости, так как лицам его состояния (он был подмастерьем у старого Гловера) не полагалось показываться на улице с мечом или кинжалом у пояса — это почитали своим исключительным правом «джекмены», то есть воины-прислужники знатных господ. В свободное от работы время он сопровождал хозяина в качестве слуги или телохранителя, но нетрудно было заметить по его ревностному вниманию к дочери хозяина, что он охотней оказал бы добрую услугу Кэтрин Гловер, чем ее отцу. Впрочем, юноше так и не пришлось показать свое усердие: общее всем чувство уважения побуждало прохожих почтительно уступать дорогу отцу и дочери.
Но вот чаще замелькали в толпе стальные шлемы, береты и перья сквайров, лучников и конных латников, носители этих воинских знаков отличия вели себя куда грубее, чем горожане. Не раз, когда такая особа нечаянно или, может быть, в кичливом сознании своего превосходства на ходу оттесняла Саймона от стены, молодой провожатый перчаточника сразу вызывающе мерил невежу взглядом, как будто рвался доказать на деле свою пламенную готовность услужить госпоже. И каждый раз Конахара — так звали юношу — одергивал его хозяин, давая понять, что нечего ему лезть в драку, пока не приказали.
— Глупый мальчишка! — сказал он. — Или ты мало пожил в моем доме? Неужели ты до сих пор не усвоил, что удар порождает ссору… что клинок режет шкуру так же быстро, как игла прокалывает замшу… и что я люблю мир, хотя никогда не боялся войны, и мне неважно, пройдем мы с дочерью ближе к стене или подальше, лишь бы идти нам тихо и мирно?
В свое оправдание Конахар заявил, что ему дорога честь его хозяина. Но этим он ничуть не успокоил старика.
— Что нам честь? — сказал Саймон Гловер. — Если хочешь остаться у меня на службе, думай о честности, а о чести пусть хлопочут хвастливые дураки, которые носят сталь на пятках и железо на плечах. Если тебе охота щеголять таким убором — милости просим, но не в моем доме и не при мне.
Конахара эта отповедь не утихомирила, а только пуще распалила, но поданный молодою хозяйкой знак — если и впрямь можно было так истолковать чуть поднятый ею мизинец — подействовал сильнее, чем сердитый укор хозяина: юноша сразу утратил воинственный вид, казавшийся для него естественным, и превратился в простого слугу миролюбивого горожанина.