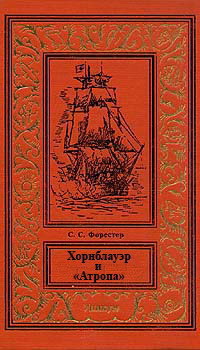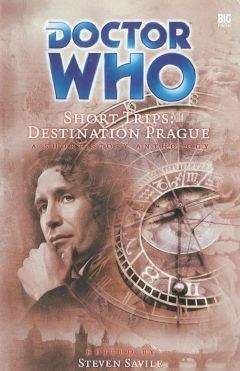Э. Непин, секретарь
Адмиралтейского совета
Хорнблауэру пришлось дважды перечитать письмо – с первого раза он ровным счетом ничего не понял. Только после второго прочтения перед ним забрезжил грандиозный смысл послания. Первое, что он понял, – жизни в Смолбридже и на Бонд-стрит пришел конец. Он волен купаться под помпой, а не в дурацкой лоханке, которая едва вмещает ковшик воды, ходить по собственной палубе, дышать морским воздухом, снять эти дурацкие узкие панталоны и никогда больше не надевать, не принимать депутаций, не беседовать с чертовыми арендаторами, не нюхать свинарников и не трястись на лошади. Мало того, ему предлагают звание коммодора – коммодора 1-го класса с капитаном под началом, то есть почти адмирала. В честь него поднимут брейд-вымпел и будут палить пушки – не то чтобы это имело значение, но все это внешние знаки оказанного ему доверия, заслуженного продвижения по служебной лестнице. Луис из Адмиралтейства высоко оценил его заслуги, коли назначает его коммодором в обход старших капитанов. Конечно, слова «полагают приличным Вашей выслуге лет и отличиям» не более чем вежливая формула, которая позволит Адмиралтейству оставить его на половинном жалованье, буде он откажется, но вот последние слова, касательно беседы с министрами, невероятно значительны. Значит, ему поручают ответственное дело международного значения. Возбуждение накатывало на него волнами.
Хорнблауэр вытащил часы. Четверть одиннадцатого – по штатским меркам еще утро.
– Где Браун? – бросил он Уиггинзу.
Браун возник как по волшебству, – впрочем, не стоило особо удивляться, весть об адмиралтейском письме наверняка успела облететь дом.
– Мой лучший мундир и шпагу. Вели заложить бричку. Поедешь со мной кучером. Собери мне все для ночлега – и себе тоже.
Слуги опрометью бросились во все стороны, понимая, что исполняют не только приказ хозяина, но государственное дело, которое требует особого рвения. Так что, когда Хорнблауэр вышел из задумчивости, рядом с ним оставалась одна Барбара.
Господи, он в волнении позабыл про нее, и она это поняла. Она сникла, уголок рта опустился. Глаза их встретились, уголок рта пошел вверх, но лишь на секунду.
– Это из Адмиралтейства, – сказал Хорнблауэр смущенно. – Меня назначают коммодором и дают мне капитана.
Какая жалость, что Хорнблауэр видел: радость ее вымучена.
– Это большая честь, – ответила она, – и ты вполне заслужил ее, милый. Ты должен радоваться, и я тоже.
– Мы разлучаемся, – сказал Хорнблауэр.
– Милый, мы пробыли вместе полгода. Ты дал мне шесть месяцев счастья, какого не заслужила ни одна женщина. И ты вернешься.
– Конечно вернусь, – ответил Хорнблауэр.
Глава вторая
Погода была обычная апрельская. Во время утренней церемонии перед господским домом солнце светило вовсю, однако уже по пути в Лондон они попали под ливень. Потом вновь выглянуло солнце, согрело и обсушило их, но сейчас, когда бричка ехала через Уимблдонский луг, небо опять почернело и на лица упали первые капли дождя. Хорнблауэр плотнее укутался в плащ и застегнул ворот. Треуголка с золотым позументом лежала у него на коленях, надежно укрытая плащом; в дождь треуголки набирают целые озера воды и теряют форму.
Вот и налетел ветер с дождем, свистящий западный ветер, и хорошей погоды как не бывало. Левой лошади пришлось хуже других, и она попыталась сбавить шаг. Браун хватил ее кнутом по блестящему боку, и у нее сразу прибавилось прыти. Браун – отличный кучер; все, за что бы он ни взялся, спорится у него в руках. Он был лучшим на памяти Хорнблауэра старшиной капитанской гички, верным помощником в бегстве из Франции и сумел стать камердинером, о каком можно только мечтать. Теперь он сидел рядом, безучастный к проливному дождю, и сжимал в большой загорелой горсти скользкие вожжи; кулак, запястье и локоть, словно пружина, обеспечивали то легкое давление удил на лошадиный рот, которое, с одной стороны, не мешает лошадям, с другой – придает им уверенности на размокшей дороге и в случае внезапной опасности позволяет сразу остановить их или повернуть. Они тащили коляску через грязь и слякоть по крутому склону Уимблдонского луга с рвением, какого Хорнблауэр никогда не замечал у них по отношению к себе.
– Хочешь снова оказаться в море, Браун? – спросил Хорнблауэр. Судя по тому, что он задал этот ненужный вопрос, он все еще был немного сам не свой от волнения.
– Еще как, сэр, – коротко отвечал Браун.
Оставалось гадать: то ли лаконичность Брауна – типично английская манера скрывать искреннее нетерпение, то ли камердинер просто вежливо угождает хозяйскому настроению.
Дождь с намокших волос затекал под воротник. Надо было захватить зюйдвестку. Хорнблауэр сгорбился на обитом кожей сиденье. Руки он держал на рукояти шпаги ценою в сто гиней – подарка Патриотического фонда. Поставив шпагу стоймя и держа на рукояти ладони, он поддерживал намокший плащ, чтобы тот не касался лежащей на коленях треуголки. Новый ручеек воды пробежал по шее. Хорнблауэр поежился. К тому времени как дождь перестал, он окончательно промок, зато солнце вновь радостно сияло. Капли воды на утеснике и ежевике лучились самоцветами; от лошадиных тел шел пар, в небе над головой запели жаворонки, Хорнблауэр распахнул плащ, вытер мокрые волосы и шею носовым платком. На гребне холма перед крутым спуском Браун для отдыха пустил лошадей шагом.
– Лондон, сэр, – сказал он.
И впрямь. Дождь прибил копоть и пыль, так что издалека был виден сверкающий на солнце золотой крест над куполом Святого Павла. Острые шпили, крошечные по сравнению с громадой купола, вырисовывались неестественно четко. Видны были даже крыши домов. Браун щелкнул языком, лошади вновь побежали