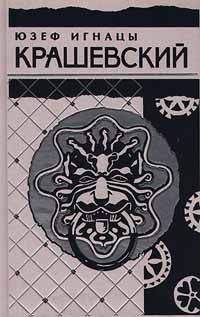потом охмистру Конецкому за то, что допускали к Анне людей, которые её побуждали, поддерживали в сопротивлении, так как не могли допустить, чтобы эту силу характера брала сама из себя.
Карнковский, которых был обязан духом Богу, проговорился перед охмистром, что Литва якобы хотела избавится от Анны, сажая её на княжество Бар в Италии, а Корона лучше о ней думала.
Несколько дней продолжалось настаивание и степенное сопротивление принцессы, которая снова объявила, что ни в Краснмыставу, ни в Лечици не думает и не поедет, хотя бы потому, что нужно было проезжать в путешествии явно заражённые околицы.
Она согласилась же на то, чтобы тем временем засесть поблизости от Варшавы в Пьясечне, хотя там соответствующего помещения ожидать не могла.
Епископ и воевода, которым в дороге казалось, что с одной осиротевшей женщиной легко, наконец, справятся, напрасно работали несколько дней и должны были признать себя побеждёнными.
Анна имела то особенное превосходство над красноречивым епископом, что говорила и отвечала спокойно, без вспыльчивости, без гнева, не воодушевляясь, но и не давая сломать себя.
Не принимала за зло Карнковскому его яростных выступлений, она говорила ему, как подобает с духовным, со смирением, мягко, но не уступая ни на волос то, что решила. Епископ и воевода согласились, рады не рады, на Пьясечно.
Это было единственное, что получили у принцессы. и, выезжая, должны были сказать себе, что возвращались как ни с чем. Ягелонка одержала победу, хотя чрезмерной радости по этому поводу не показывала.
У неё было много иных причин для забот и грусти. Та Литва, которую подозревали, что была с нею в заговоре, угрожала, что завещание короля признавать вообще не хочет и не думает, что его наследниками ни братья и сёстры, а страна должна быть.
Коронные паны, равно алчущие денег для опустевшей казны, готовы были вместе с литвинами приступить к делению.
Согласились поглядеть и проверить что и как там в Тыкоцыне находилось.
Мы уже знаем из рассказа о том, что король поручил охрану тыкоцынских сокровищ ротмистру Белинскому, верности которого доверял, и приказал ему сказать и просил клятву на то, что ни ключей никому не даст, ни доступа, за исключением принцессы Анны.
Когда в Ломжу дошла новость, что литвины и коронные паны выбирались в Тыкоцын, Талвощ от принцессы побежал сразу убедить ротмистра Белинского, чтобы доверия, на него возложенного, не уронил.
Это посольство совсем не было нужным. Когда Талвощ прибежал, уже после всех появился, а Белинского нашёл таким спокойным, точно ему ничего не угрожало. Старый вояка был одним из тех людей, которым ни воеводы, ни каштеляны, ни епископы важностью своей сенаторской импонировать не могли. Свою честь и рыцарское слово ставил так высоко, что за них готов был отдать жизнь.
С хладнокровием он сдал реляцию Талвощу, что, действительно, из Литвы назначенный староста жмудьский и Война, литовский писарь, вместе с воеводой сандомирским и каштеляном гнезненским приехали в Тыкоцын с намерением осмотреть эти сокровища. Этим Белинский сразу при вступлении без недомолвок объявил:
– Осмотрите, ваши милости, есть ли надлежащий порядок около королевского тела и около опечатанных склепов, но не требуйте от меня, чтобы я нарушил слово. Я человек почтенный и рыцарский, покойному королю присягал и скорее потеряю жизнь, чем нарушу мою присягу.
Господа тогда потребовали, чтобы он и все в замке в Тыкоцыне сложили новую присягу Короне и Литве. Белинский отпирался.
Произошёл конфликт и смятение по этой причине, ротмистр недвижимо стоял на своём.
Угрожали ему отозванием на съезд в Варшаву, не помогло и это. Силой выполнить не осмелились и склепы остались неповреждённые.
Талвощ привёз эту утешительную новость в минуту, когда уже выбирались в Пьясечно.
Таким образом принцесса счастливо удержалась при своём и должна была приблизиться к Варшаве, в которой хотела очутиться, хотя бы это панам сенаторам могло быть не очень милым.
В середине зимы, по очень плохим дорогам, с великими неудобствами пустилась принцесса в это путешествие, к которому, казалось бы, была принуждена, а в действительности оно отвечало её пожеланиям: она приближалась к городу, где должны были проводиться съезды, и она могла быть деятельной.
До сих пор всё получалось, хотя добывать положение, которое нужно было занять, она должна была силой. Со смерти короля эта бессильная сирота уже дошла до того, что стала страшной и могла иметь свою волю. Паны были вынуждены с ней считаться.
Что там делалось в её душе? Как сумела удержаться на завоёванном положении, не имея помощников, кроме малюсеньких верных слуг? Один Бог ведал.
Видя её так смело передвигающуюся всё далее, не дающую себя запугать, сбить с однажды назначенной дороги, паны не понимали, чтобы эту силу в себе самой черпала; им думалось, что она была в сговоре с императором и что им хотела навязать пана, не допуская элекции.
Поэтому присягали, заклинали, что не дозволят, чтобы правил ими тот, кого сами не выберут.
Оттого что ни глупого охмистра Конецкого невозможно было заподозрить в помощи принцессе в этих мнимых заговорах, ни епископа хелмского, ни Чарнковского, который за собой затирал тропы, обратили глаза на Талвоща, ему приписывали всё: сопротивление, тайные сговоры…
Потребовали от Анны, чтобы его удалила. Принцесса в минуту великого возмущения умов сама не знала, что предпринять, и тайно велела призвать литвина, который уже обо всём знал.
Это ему ничуть не омрачило лица, хотя со двора принцессы уйти не рад был из-за Доси.
– Что мне предпринять, мой Талвощ, – сказала ему Анна, вздыхая. – Глаза мне тобой выкалывают.
– Ежели ваша милость из-за меня, несчастного своего служки, страдать должны, – сказал Талвощ, кланяясь, – усиленно прошу: прикажите мне идти прочь, я не менее ревностно служить буду.
В глазах принцессы навернулась слеза.
– Нужно успокоить панов сенаторов, – добавила она, – но не отдаляйтесь из Варшавы. Даст Бог, я верную службу награжу.
Какая награда была для него самая милая, не поведал Талвощ, ушёл, готовый на всё.
Назавтра при епископе хелмском приказала его позвать и объявила, что для спокойствия и из-за настойчивости панов она желает, чтобы он её покинул.
– Будет по воле вашей милости, – отвечал, кланяясь, литвин, – благодарю за все милости, какие испытал, и ухожу, желая только, дабы друзья вашей милости служили верно, как я служил.
Тогда Талвощ официально был уволен.
Он весело, однако, пошёл к товарищу Боболе.
– А что, милый друг! – сказал он. – Мне приказали убираться. Вы счастливец, что паны сенаторы вас не заподозрили, и остаётесь.
Бобола не поверил ушам. Казалось не только ему, но даже Конецкому,