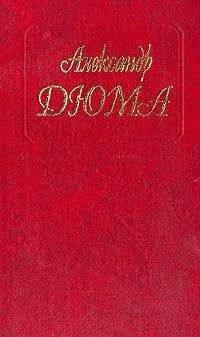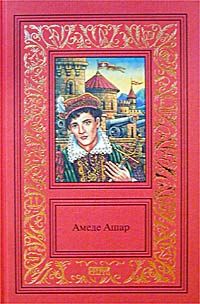Господин Кумб не был потрясен ни несчастьем Мариуса, ни горем Милетты — он просто был голоден. Какое-то время он продолжал сидеть, раздираемый борьбой между позывами своего голодного желудка и чувством уважения, какое внушает несчастье.
При других обстоятельствах эта борьба не имела бы неясный исход, и аппетит г-на Кумба одержал бы верх над любым посторонним соображением; но душа его явно находилась на пути к исправлению, поэтому около получаса он еще посидел рядом с Милеттой, ожидая, что она, наконец, выйдет из оцепенения, но, в конце концов, видя, что его терпение столь же бесполезно, как и его настояния, он, к своему великому сожалению, принял решение лечь спать без ужина.
Хотя, в итоге, ему пришлось запастись покорностью судьбе, ибо утром следующего дня, проснувшись, он напрасно стал искать Милетту в домике и по соседству.
Бедная женщина исчезла, и, покидая дом, она, разумеется нечаянно — г-н Кумб, несмотря на дурное расположение духа, обвинил ее не в каком-то ином преступлении, а в рассеянности, — так вот, Милетта унесла с собой ключи, а это означало, что г-н Кумб, которого взлом пугал, даже если речь шла о его собственном жилище, остался без завтрака, так же как накануне вечером — без ужина.
XVIII. МАТЬ И ВОЗЛЮБЛЕННАЯ
Как и в первые минуты своего ареста, в тюрьме Мариус оставался твердым и смиренным. Такое спокойствие и мужество вдохновлялось его страстной любовью к Мадлен. И чем больше он размышлял, тем больше убеждался в невозможности того, чтобы мадемуазель Риуф, как бы ни сложились обстоятельства, сочеталась браком с сыном Пьера Мана. Не имея возможности жениться на той, которую он любил и которая первая протянула ему свою руку, когда он даже не осмеливался мечтать об этом, Мариус стал думать о смерти: она казалась ему легкой и сладкой, и он призывал ее от всего сердца, считая, что только она способна избавить его от страданий.
Он размышлял о своей матери, и его религиозное чувство помогало ему переносить горечь воспоминаний о ней. Он жертвовал собой, чтобы одновременно спасти и своего отца и своего благодетеля. Бог не может покинуть его; он примет последнюю просьбу Мариуса, с которой тот рассчитывал обратиться к нему, — поддержать Милетту на тернистом пути, что ей еще предстояло пройти на земле.
Итак, он оставался непоколебимым во время своего первого допроса, состоявшегося наследующий день. Лишь только следователь распорядился, чтобы арестованного отвели в одиночную камеру, где того содержали, как ему сообщили, что одна молодая дама настоятельно требует встречи с ним.
Нетерпение особы, добивавшейся этого свидания, было столь велико, что она не стала дожидаться возвращения своего посыльного, и сквозь приоткрытую дверь в полутьме прихожей был виден ее силуэт.
Следователь появился перед ней и, указав ей рукой на стул, сел напротив.
Она не стала ждать, когда судейский первым обратится к ней с вопросом.
— Моя просьба, сударь, вне всякого сомнения, покажется вам странной и необдуманной, — произнесла она с твердостью в голосе, которую не ослабило волнение. — Быть может, вы станете порицать ее; но моя совесть и, чтобы быть до конца искренней, еще одно чувство оправдывают ее, и этого вполне достаточно, чтобы я выполнила свой долг. Я мадемуазель Мадлен Руиф.
Следователь поклонился. Девушка приподняла вуаль, скрывавшую ее лицо, и собеседник получил возможность любоваться им: своим благородством и красотой, несмотря на его бледность и глубокий отпечаток, оставленный тревогами минувшей страшной ночи, оно вызвало в нем подлинный интерес.
— Я оставила ложе, на котором борется со смертью мой бедный брат, — продолжала Мадлен, — с тем чтобы прийти к вам и выполнить насущный долг, перед лицом которого должно отступить любое другое соображение.
— Мне кажется, я догадываюсь о том, что привело вас ко мне, мадемуазель, — заявил следователь, — и к несчастью предвижу также, что буду вынужден, к моему великому огорчению, ответить отказом на вашу просьбу. Как мужчина я испытываю, разумеется, крайнее нежелание отдавать на людское поругание репутацию женщины, особенно когда эта женщина принадлежит, как вы, мадемуазель, к почтенному семейству; но судья должен быть выше соображений такого рода. Он гораздо больше зависит от Бога, нежели от ближних своих, и, выполняя свою миссию, должен, так же как Бог, расценивать как нечто суетное привилегии людей и общественные различия.
— Я вас не понимаю, сударь, — отозвалась Мадлен.
— Я буду более точным: вы, разумеется, пришли повторить просьбу, с которой этот несчастный — и я воздаю ему за это должное — обратился ко мне вчера вечером: сделать так, чтобы исчезло письмо, которое подтверждает характер отношений, какие мне не надлежит оценивать, существовавших между вами и обвиняемым.
— Нет, сударь, вовсе нет. Вы ошибаетесь, — с благородной решимостью возразила Мадлен, — и я протестую против такого предположения, поскольку оно отвратительно. Я люблю Мариуса и без тени стыда признаюсь сегодня в том, о чем не постыдилась написать вчера. Я пришла к вам вовсе не для того, чтобы просить скрыть правду, а с тем, чтобы ее восстановить. Я только сейчас узнала об аресте Мариуса и имею весьма неполное представление о подробностях его; я очень боюсь, что Мариус, из благородных чувств и самопожертвования, откажется сознаться в том, что оправдывало его присутствие в черте моего владения, и я пришла, чтобы сообщить вам об этом.
— Такое благородство чувств делает вам честь, мадемуазель, однако все это бесполезно. Если признания подозреваемого и вызывали бы у нас сомнения, то сопоставление обстоятельств дела, а также заявление господина Кумба помогли бы снять их. Доказано, мадемуазель, что тот, кого вы полюбили, виновен в попытке убийства, в результате чего вы, возможно, лишитесь своего брата, которым вы тоже должны дорожить.
Следователь особо подчеркнул последние слова.
Однако Мадлен осталась невозмутимой.
— Я нам сейчас покажусь весьма странной девушкой, сударь; но, даже рискуя навлечь на себя ваше порицание, я не склоню голову, ибо уверена в том, что позже буду вознаграждена вашим уважением за ошибку, в какую вы могли бы впасть в данную минуту. Полюбив того, о ком мы с вами говорим, я вовсе не уступила пустой прихоти; да она меня, благодарение Господу, больше и не обольщала. Предоставленная самой себе с ранних лет, я уже тогда осознала, что все в жизни серьезно. Я избрала его по своей воле и собственному желанию; я долго размышляла о том, как поступить, и, чтобы я стала сожалеть об этом, понадобится что-то совершенно иное, чем те утверждения, на которых, вне всякого сомнения, основывается ваше обвинение. В отношении вашей последней фразы, я отвечу так: если я и оставила скорбное ложе, к которому привязывает меня мой долг, то только потому, что сам брат, будь он в состоянии говорить, сказал бы мне, приблизившись к минуте нашего расставания навечно: «Пойди и спаси невиновного!»