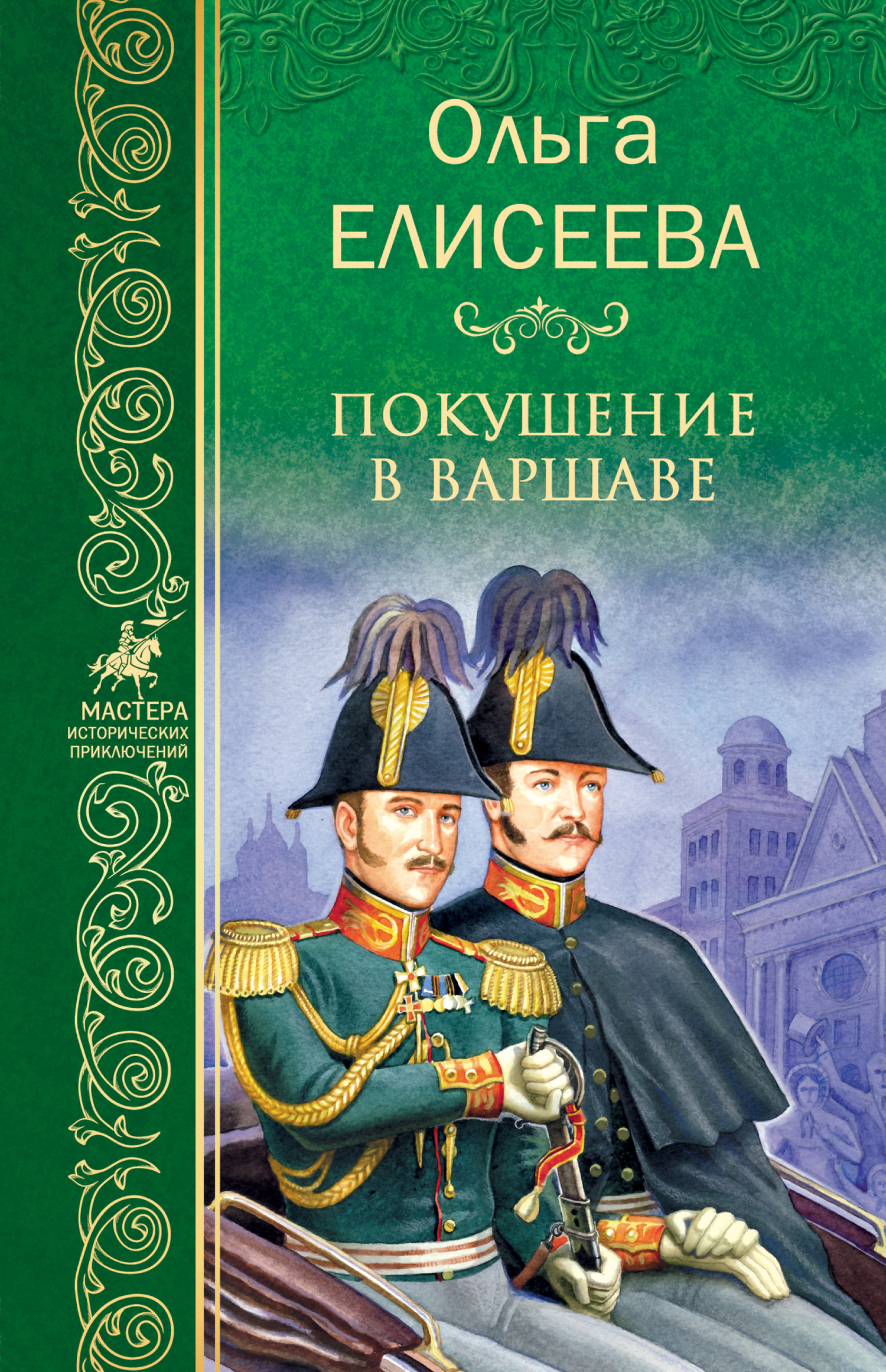Очень неожиданная встреча!
Графиня, склонив темно-русую голову, увенчанную тяжелой крученой косой, рассматривала своего давнего рыцаря, человека, который отверг ее, а теперь стал благодетелем отца, покровительствовал всему их дому, двигал по карьерной лестнице братьев, считал Толстых своим прочным тылом. Как такое возможно? Ведь ее-то не взял? Люди редко понимают, что мир вращается не вокруг них.
– Добрый день, Софья Петровна, – ласково сказал Бенкендорф и сел как ни в чем не бывало. Даже слова через стол не сказать, хотя приборы совсем рядом. Протяни руку и…
Их разделяла красивая гирлянда белых лилий, вставленных в цветущий остролист, тянувшаяся от высокого серебряного шандала к другому. Сознавая преграду непреодолимой, Александр Христофорович занялся ближайшими соседями. Русских чередовали с поляками, и он попал как раз между двумя кардиналами в красном. Сам примас восседал выше, возле императорской семьи.
Въезжая в город, его величество остановился возле кафедрального собора и причастился святой водой, что вызвало ликование у приверженцев католицизма, и теперь кардиналы были настроены очень благодушно. Они в один голос хвалили шефу жандармов то те, то иные закуски: утиные хлебцы с черносливом, тонко нарезанную спаржу в местном маринаде с горчичными зернами – словом, то, чего в Петербурге нет, и никогда не будет. А когда узнали, что он воспитывался в иезуитском пансионе аббата Николя и говорит по-латыни не хуже магистра медицины, пришли в восторг и расслабились.
– Если бы ваш государь пожелал править нами, как он правит в России, с таким же тщанием и справедливостью, – доверительно сказал правый сосед, размерами соперничавший с колоколом, – многие бы тут легко позабыли о Конституционной Хартии. А мы тем более – конституции не от Бога.
– Но они – узда для черни, – вставил сосед слева, с вытянутым рыльцем хорька и маленькими, бегающими по столу глазками. – Жаль только, принцы не хотят их соблюдать, – его взгляд уперся в Константина. – Неужели мы настолько несчастны, что государь оставит нас под управлением этого чу… – он было не сказал «чудовища», но спохватился, – …своего брата?
– Видно, Господь считает, что мы очень грешны, – со вздохом кивнул правый обладатель алой мантии.
– Видимо. – Бенкендорф рассеянно смял хлеб. Он понимал, что сейчас начнутся жалобы на цесаревича, слушать которые глава III отделения не имеет права. – Простите, господа, но дама напротив хочет мне что-то сказать.
Александр Христофорович покинул кардиналов, почти бежал, сознавая, что из беседы с ними мог бы узнать много интересного. Но император раз и навсегда сказал ему: «Константин останется там, где есть. Вы представляете, что это будет, если он вернется в Петербург и начнет во все вмешиваться? Наш Ангел недаром держал его на расстоянии. Так хлопот меньше».
В последнем Бенкендорф был не уверен. Судя по всему, хлопоты и немалые у порога. «Аз есмь при дверях». Но сейчас, прямо на торжественном ужине, нельзя было поощрять доносительство на великого князя. А то вал подметных писем и череду приватных разговоров, каждый из которых сводился к одному пожеланию: «Уберите Константина», не остановишь.
Генерал быстро обошел подкову стола и, раньше чем госпожа Апраксина успела опомниться, подсел к ней.
– Вы пронзаете меня взглядом, любезная Софья Петровна, точно намереваетесь нанизать на булавку и засунуть в гербарий для насекомых. – Он забыл, как по-научному называется эта штука: коробочки, бабочки в них…
– К сожалению, вы не из моей коллекции, – отозвалась графиня Апраксина. – И никогда не хотели к ней принадлежать.
Александр Христофорович взял ее руку и поднес к губам.
– Сознайтесь, я поступил весьма достойно. Не нарушил ни правил чести, ни вашего будущего благополучия.
– Мое благополучие? – усмехнулась она, глянув на Шурку глазами без улыбки. – Вам это так видится?
Бенкендорфу стало не по себе.
– Я замужем и благополучно, тут вы правы, – сказала она. – Нравится ли мне такая жизнь? Я предпочла бы другую.
Теперь он ругал себя за то, что пересел.
– И другого человека рядом, – закончила Софи. – Но мы не всегда получаем в жизни то, чего хотим. Вы объяснили мне это очень доходчиво в шестнадцать лет, и, наверное, я поняла, усвоила урок. Но скажите, вы ни разу не пожалели?
Было бы очень к месту заявить: «Жалею сейчас». Наверное, именно этого она и ждала. Или очень жестоко: «Нет». Последнего он не мог допустить. Первого не хотел.
– Вы не жалеете, – мягко констатировала дама. – Не надо меня смущаться. Это так естественно. Вы счастливы.
«Где счастлив-то? Весь с ног сбился!» – чуть не рявкнул Шурка.
– Говорят, у вас большая семья.
– Пять девочек. – Он глупо заулыбался. – Еще племянник с племянницей. Брат умер…
– Сожалею. – Она ласково коснулась его руки. – А вот мне Бог не дает и этого утешения.
Ему стало ее жалко-жалко. Ну, правда, как он мог? Такая милая, несчастная женщина!
– Не печальтесь, ведь вам еще и тридцати нет, – ободрил Бенкендорф.
– Двадцать девять.
– Вы очень хороши собой. Просто прелесть. Попался неудачный муж? Так на муже-то свет клином не сошелся.
– Что вы такое говорите? – Апраксина растерялась. – Моя матушка наставляла меня очень строго. Мы ни одной обедни не пропускаем…
А может, стоило бы пропустить? Ее матушка! Княгиня Марья Алексеевна. Достойнейшая супруга отца-командира. Сколько он, бедняга, от нее вытерпел. Богатая, как Крез. Родовитая, как сам император. Страшная, как коровья смерть. Урожденная княжна Голицына, она строила благоверного, будто гарнизон на плацу.
Сейчас Бенкендорф смотрел на Софью Петровну и находил в ее лице так мало материнского, властного, грубого. К счастью, Софи пошла в отца, молодца и красавца. Лицо чистое, сердечком, отцовская ямочка на подбородке. Его же точеный нос, разлет бровей и серьезные, зеленовато-голубые, темные глаза.
Он увидел ее как бы заново и сам себе удивился. Чего было не взять? Всем хороша. Если бы ей тогда было сколько сейчас. Неужели испугался? Другого объяснения не подобрать. Но жизнь сложилась, как сложилась. И, пожалуй, у него лично неплохо. Хотя, конечно, годы. Вот бы снова гарцевать, махать саблей, соблазнять дам. Воевать? Наверное, и воевать.
– Посмотрите на меня, – молвил он. – Это мундир все скрывает. А без него – ничего завидного. У вас же вся жизнь впереди.
На лице собеседницы было написано: не хочу я этого «впереди». Чего ждать-то?
И опять ему стало очень стыдно. Обидел девчонку. Хоть и не хотел. Напротив, хотел, как лучше.
Софья Петровна ободряюще улыбнулась ему:
– Я вас не виню. Почти.
Какая она милая. Чего-чего, а этого в русских дамах больше, чем в других. Не красоты, не умения обольщать, а тишины, мягкости, прощения и терпения.
Он улыбнулся, глядя на Апраксину, и проронил, сам не понимая, как вырвалось:
– Простите меня.
Ее лицо просияло из глубины, точно этих слов она и ждала. Не признания, будто он кусает локти, будто несчастлив, а извинений. Простых слов. Де обидел. Молодой был, глупый. Не стоило.
– Спасибо, – молвила она, как бы примиряясь с ним, а заодно и со своим прошлым. На ее лице была такая спокойная мудрость терпения, каких Александр Христофорович прежде не видел.
Софья Петровна встала, заметив, что императрица знаком руки подзывает ее. Бенкендорф проводил глазами удаляющуюся фигуру – гибкий стан в платье из темно-вишневого шелка, длинные, опущенные вдоль тела руки изумительной красоты, покатые плечи, оттененные прозрачным кружевом, – и ему показалось, что сейчас от него