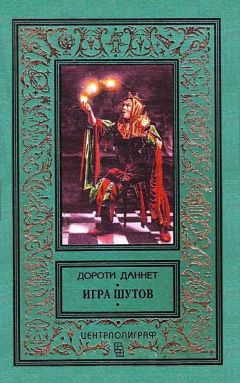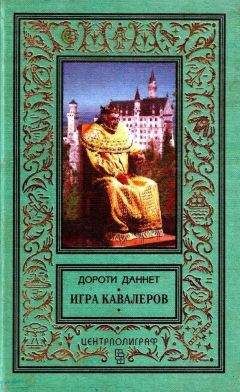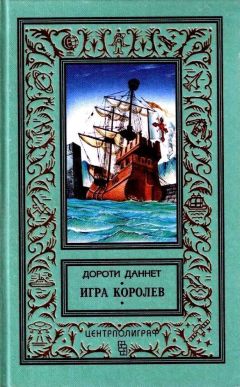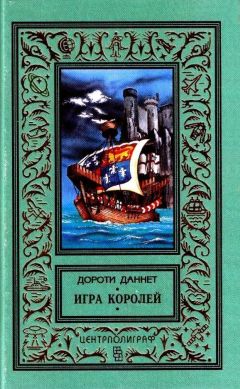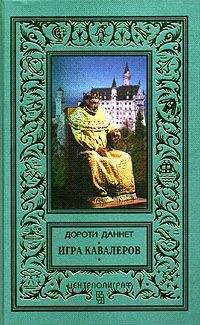А зайчик начинал уставать. Дар любви, посвященный Венере, вскормленный диким тимьяном и идущий на голос флейты, молодая зайчиха в ошейнике, усеянном изумрудами, никогда не имела врагов: ей и во сне не снились бамбуковые заросли Ганга и плавно скользящая смерть, таящаяся там. Зайчиха задыхалась, глаза ее побелели; все ближе и ближе слышала она тяжелую, мягкую поступь, и страх волна за волной поднимался к ее трепещущему сердечку — и вот, перекрывая шелест травы, далекий лай собак, неровный галоп усталой лошади, тихий, тревожный ропот и звяканье сбруи, раздался знакомый голос; маленькая, белая, словно фарфоровая кобылка выехала вперед, потянуло знакомым запахом, появилась знакомая фигурка, и наконец послышался зов:
— Сюзанна!
Изо всех своих сил, не жалея в кровь сбитых лапок, зайчиха отвернулась от распахнутого, неприютного горизонта и направилась к маленькой королеве. Далеко позади гепард развернулся тоже, не сводя бесстрастного, гипнотического взгляда с мелькающего белого хвостика, маленькой лошадки и рыжеволосой всадницы.
Герцог Гиз на вершине холма внезапно и сильно вонзил шпоры в бока своей лошади и устремился к племяннице. Все, кто был внизу — и всадники, и пешие, — в отчаянии и страхе ринулись вперед. Но еще раньше стальная рука схватила запястье О'Лайам-Роу, и звонкий голос Лаймонда отчетливо произнес:
— Луадхас.
На какое-то мгновение между ними установилось неловкое, полное боли, молчание. Потом О'Лайам-Роу нагнулся и что-то сказал. Не веря своим ушам, выслушал его маленький фирболг, затем наклонился, снял легкую сворку и направил волкодава Луадхас следом за гепардом.
Благородное животное, Луадхас великодушно и честно подчинилась команде. Она могла бы справиться с волком, но эта чуждая, зловещая краса, это гибкое тело, скользящее среди трав, составляло часть неведомой стихии. Луадхас бежала вверх по склону, хвост ее развевался, жесткая шерсть стояла дыбом, длинные ноги поднимались высоко, и сколь бы стремительно ни сокращалось расстояние между гепардом и зайчихой, расстояние между собакой и гепардом стало сокращаться еще быстрее. Ореховый прутик, зажатый в правой руке О'Лайам-Роу, переломился надвое.
Зайчиха изнемогала. Сердце рвалось у нее из груди. Задыхаясь от усталости и страха, ничего не видя перед собой, она бежала на голос хозяйки, и дорогие каменья на ее ошейнике сверкали и переливались в беспощадных солнечных лучах.
И фарфоровая лошадка с самой легкой, самой невесомой из всадниц скользнула с вершины холма и устремилась вниз быстрей, чем все остальные. За несколько ярдов от зверька Мария высвободила ноги из стремян и спрыгнула на землю — и в это самое мгновение мерин герцога поравнялся с ней. Она рванулась вперед, маленькая лошадка отскочила в сторону, и дядюшка королевы одной рукой вцепился ей в плащ.
Мария споткнулась. Она плакала, волосы прилипли к разгоряченному лицу, слезы струились вдоль носа и по подбородку. Зайчиха сделала последний, мощный прыжок и застыла неподвижно посреди луга, довольно далеко от девочки. Мария вырвалась и бросилась вперед, а чуть поодаль раздвигалась и шелестела трава.
Бесстрашно, как все, что делал этот молодой, отчаянно смелый воин, герцог Гиз соскочил с седла, схватил девочку, одной рукой подобрал зайчиху и бросил ее ближайшему всаднику. Робин Стюарт подхватил вялое, теплое, поникшее от изнеможения тельце, а герцог посадил Марию на свою отчаянно рвущуюся лошадь и сам вслед за нею вспрыгнул в седло.
И снизу, и сверху к Гизу и к девочке устремились всадники, но гепард опередил всех. Раздвинулись травы, и все увидели знак лиры на морде, и мощные передние лапы, и шелковистый, желто-белый живот. Маленькая Мария вцепилась в седло, и гепард кинулся к мерину Гиза, не сводя топазовых глаз с рыжеволосой головки. Хищник даже не остановился ни на минуту. Его лишили законной добычи — и вот, разъяренный, он сделал последний рывок, примерился и прыгнул. Герцог с девочкой на руках повернул боком испуганную лошадь, но выпущенные когти не коснулись его. Прокладывая себе путь в траве, показалась лохматая, пятнистая собака. Мелькнула тонкая, остроконечная морда; длинные, покрытые жесткой, спутанной шерстью ноги на мгновение коснулись земли — и Луадхас, волкодав ирландской породы, с отвагой, доставшейся ей от предков, собрала все свои силы и бросилась на гепарда.
Участники этой достопамятной охоты долгие годы вспоминали разыгравшуюся затем битву. Не существовало оружия, с помощью которого можно было бы теперь отогнать гепарда от собаки, и ни единый человек не мог бы надеяться развести их. Плачущую девочку отвезли в безопасное место, а все остальные стояли и смотрели как зачарованные.
Никто не сомневался в исходе битвы. О'Лайам-Роу знал, точно так же, как Лаймонд, что у собаки нет ни малейшего шанса. Волкодав и гепард катались по земле — мелькали то короткий шелковистый мех и жесткая, злобная, треугольная морда, то тонкий византийский профиль; затем Луадхас, оскалив зубы, вцепилась в пятнистую спину, и по волнистой, переливающейся, как у змеи, шкуре прошла дрожь; взметнулась тяжелая, мягкая лапа, и спутанная шерсть на голове собаки поникла, стала влажной и темной — из раны брызнула горячая кровь.
Луадхас была храброй собакой. Истекая кровью, она не ослабила хватки — крепкие зубы вновь и вновь вонзались в грязно-желтый с белыми пятнами бархатистый мех. Но вот она мотнула головой, и гепард, тоже окровавленный, вывернулся и, покачиваясь, отступил на шаг: обозленный, сбившийся с ритма танцор, которому подставили подножку. На мгновение оба застыли. Затем напряглись мощные плечи, четко обозначились мускулы паха и бедер — и, спокойно собравшись с силами, гепард прыгнул, смертоносной дугой мелькнув в пронизанном солнцем воздухе. Огромная кошка всей своей массой мягко обрушилась на жертву, и безжалостные, острые, как бритвы, когти вонзились в шею и в хребет Луадхас, разрывая сухожилия и сосуды. Собака завизжала и покатилась по земле; тело ее содрогалось на скрипящей, притоптанной траве, а мягкий, как женские волосы, мех оплетал ее, и когти все глубже вонзались в спину. Она еще долго боролась, тяжело дыша, захлебываясь кровью, чуть повизгивая, но гепард не ослаблял хватки, и через какое-то время стоны прекратились, тонкая морда обмякла, и гепард вытащил когти.
Смотритель зверинца, побелев от страха, предчувствуя всю силу королевского гнева, подскочил с цепью в руке и стал ласково подзывать гепарда. Повернулась плоская голова с надменной лирой, блеснули карие глаза — и смотритель застыл на месте. Осторожно, изящно, с медленно поднимающейся изнутри холодной, ликующей жаждой крови, гепард направился дальше. Он брезгливо перешагнул через тяжело дышащую массу разодранной шерсти, что валялась в луже крови на истоптанной траве, и обвел своими топазовыми глазами людей и коней, которые охватывали его тесным, широким кругом. Одна лошадь стояла ближе других — и там, забытая всеми, находилась та, первая, подлинная добыча. Злобно, нежданно-негаданно, как некий призрак, гепард прыгнул на Робина Стюарта, который сидел верхом, сжимая зайчиху в своих холодных руках.