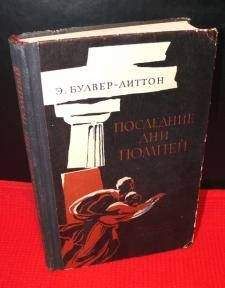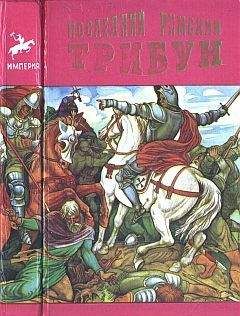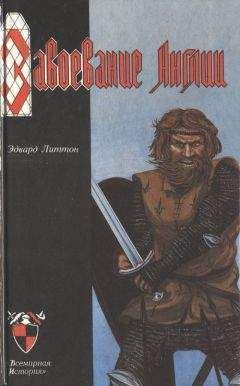Саллюстий принял эту честь с подобающей скромностью.
— Я буду милостивым повелителем для тех, кто пьет усердно, — сказал он. — К непокорным же буду суровее самого Миноса. Берегитесь!
Рабы поднесли каждому из гостей таз с ароматной водой, и этим омовением начался пир. Стол ломился от закусок.
Пока разговор не стал общим, Иона и Главк могли потихоньку перешептываться, а это было для них приятней, чем слушать лучших ораторов мира. Юлия не спускала с влюбленных горящего взгляда.
Но от Клодия, сидевшего в середине, откуда ему хорошо видна была Юлия, не укрылась ее досада, и он поспешил этим воспользоваться. Он обратился к ней через стол с обычными любезностями. Клодий был благородного происхождения и недурен собой, а тщеславная Юлия не настолько была влюблена в Главка, чтобы остаться равнодушной.
Бдительный Саллюстий все время неусыпно следил за рабами; он поднимал чашу за чашей с такой быстротой, словно решился исчерпать огромные погреба, которые еще и сейчас сохранились под домом Диомеда. Достойный торговец начал уже жалеть о своем выборе, так как пришлось открывать одну амфору за другой. Рабы, все юные (младшие, которым не было еще и десяти лет, разливали вино, а другие, постарше лет на пять, разбавляли его водой), казалось, разделяли рвение Саллюстия; Диомед покраснел, когда заметил, с каким удовольствием поддерживали они старания царя пира.
— Прости меня, сенатор! — сказал Саллюстий. — Я вижу, ты уклоняешься от возлияний; твоя тога с пурпуровой каймой тебя не спасет — пей!
— Клянусь богами, — сказал сенатор, кашляя, — я уже весь в огне. Ты мчишься с такой быстротой, что сам Фаэтон по сравнению с тобой ничто. Я слаб, любезный Саллюстий: придется тебе освободить меня.
— Ни за что, клянусь Вестой! Я равно беспристрастен ко всем своим подданным — пей!
Бедный сенатор принужден был повиноваться законам пира. Увы! Каждая чаша приближала его к стигийским болотам.[73]
— Легче, легче, любезный царь! — стонал Диомед. — Мы уже начинаем…
— Измена! — воскликнул Саллюстий. — Я не потерплю за этим столом сурового Брута, не потерплю вмешательства в мои повеления!
— Но здесь женщины…
— Пускай полюбят пьяниц. Разве Ариадна не была влюблена в Вакха?
Пир продолжался; языки развязались, гости зашумели. Последняя перемена блюд — десерт был уже на столе; рабы разносили воду с миррой и иссопом для омовения. Тем временем напротив гостей поставили круглый столик, и из него вдруг, словно по волшебству, забила благоуханная струя, обрызгивая стол и пирующих; после этого балдахин был отдернут, и гости увидели, что под потолком протянут канат, и один из тех танцовщиков, которыми Помпеи так славились, стал показывать свое искусство прямо у них над головами.
Этот призрак скакал как безумный, и достаточно было ему поскользнуться, чтобы размозжить голову кому-нибудь из зрителей; но пирующие смотрели на это зрелище с интересом и хлопали, когда танцовщик совершал особенно трудный прыжок и ухитрялся при этом не упасть на гостя, который ему особенно понравился. Особое предпочтение он оказал сенатору, совсем было соскользнув с каната и ухватившись за него рукой в последний миг, когда все уже думали, что голову римлянина постигнет та же участь, что и голову поэта, которую орел принял за черепаху. Наконец танцовщик остановился, и Иона, не привыкшая к таким зрелищам, вздохнула с облегчением. Снаружи раздалась музыка. Тогда он стал танцевать еще быстрее; мелодия переменилась, и он снова замер, словно был заколдован, и музыка не могла рассеять чары. Он представлял больного какой-то необычайной болезнью, который танцует и не в силах остановиться, — только определенная мелодия может его излечить. Наконец музыканты, видимо, нашли эту мелодию; танцовщик сделал прыжок, соскочил с каната на пол и скрылся.
Одно искусство пришло на смену другому: музыканты, сидевшие на террасе, заиграли тихую, нежную мелодию, и из-за стены едва слышно донеслось пение..
Солнце тем временем стало клониться к закату, но гости, пировавшие уже несколько часов, не замечали этого в затемненном зале. Уставший сенатор и воин, которому нужно было еще вернуться в Геркуланум, встали, подав этим сигнал для общего разъезда.
— Еще минуту, друзья мои, — сказал Диомед. — Если вы хотите так скоро оставить меня, то по крайней мере должны принять участие в нашей последней игре.
Подозвав одного из слуг, он что-то шепнул ему. Раб вышел и вскоре вернулся с небольшой чашей, в которой лежали навощенные таблички, тщательно запечатанные и с виду совершенно одинаковые. Каждый из гостей должен был купить табличку, уплатив самую мелкую серебряную монету; весь интерес этой лотереи (любимого развлечения императора Августа, который ее и ввел) заключался в неравноценных, а иногда и совсем неуместных выигрышах, указанных на табличках. Так, например, поэт с кислым видом вытянул свое стихотворение (ни один аптекарь еще не проглатывал с меньшей охотой собственную пилюлю); воину достался ларчик со шпильками, что дало пищу для острот насчет Геракла и прялки;[74] вдова Фульвия выиграла большую чашу для вина, Юлия — мужскую застежку, а Лепид — коробку для рукоделия. Самый подходящий выигрыш достался игроку Клодию, который покраснел от досады, когда ему поднесли меченые игральные кости. Общее веселье несколько омрачило событие, которое сочли дурным знаком: Главку достался самый ценный выигрыш — мраморная статуэтка Фортуны греческой работы, но, подавая ему статуэтку, раб уронил ее, и она разбилась.
Все содрогнулись и невольно вскрикнули, призывая богов отвести беду.
Один только Главк, хотя он, вероятно, был суеверен не менее остальных, остался невозмутим.
— Милая Иона, — шепнул он нежно неаполитанке, которая сама побледнела как мрамор, — я принимаю это знамение. Оно означает, что, дав мне тебя, Фортуна не может больше дать ничего — она разбила свое изображение, благословив меня твоим.
Чтобы рассеять впечатление, которое произвел этот случай на собравшихся, Саллюстий, украсив свою чашу цветами, поднял ее за здоровье хозяина. Затем была поднята чаша за императора; и наконец — прощальная чаша в честь Меркурия, чтобы он ниспослал всем приятные сны, после чего Саллюстий отпустил тетей.
Экипажами и носилками в самих Помпеях пользовались редко, потому что город был небольшой, а улицы узкие. Почти все гости, надев сандалии, которые они сняли при входе в пиршественный зал, и за-нсрнувшись в плащи, отправились домой пешком в сопровождении своих рабов.
Тем временем Главк, видя, что Иона ушла, двинулся к лестнице, которая вела вниз, и рабыня проводила его в комнату, где уже ждала Юлия.