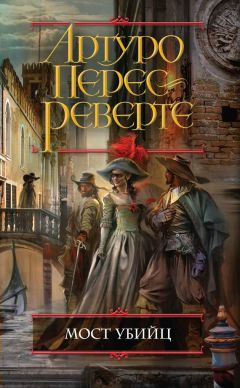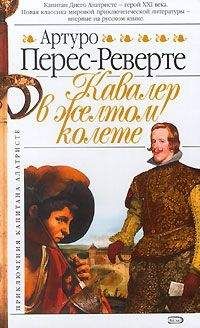— Какое совпадение. Я тоже.
Он придвинулся к столу и вперил задумчивый взор в план Венеции. Через мгновение ткнул пальцем в площадь Сан-Марко:
— Дожей убивать никогда не приходилось. А тебе?
— И мне.
— Должно быть, в этом есть какая-то изюминка… А?
Он бесцеремонно схватил кувшин и налил себе стакан вина. Капитан, проводив взглядом его движения, не возразил.
— Попробуй сказать, что тебя это не заводит, — громким шепотом сказал итальянец, с ироническим полупоклоном приподнимая стакан на уровень глаз. — Как заводит меня.
Коротко отхлебнул, прищелкнул языком, сделал второй глоток, — побольше, и вот наконец поставил пустой стакан на стол, мазнул ладонью по губам, вытирая усы.
— Взыграл гонор — изволь его тешить. Любой ценой. Разве не так? Двадцать шагов — и удар кинжалом. — Он кивнул на пистолет. — Или пятнадцать — и пулю из него.
— Спятил ты, Малатеста.
Раздался скрипучий смех:
— Нет. Мне просто хочется повеселиться. Хочется устроить такое веселье, чтоб дрожь пробила королей, дожей, пап…
Капитан откинулся на спинку стула. Взгляды собеседников — злобно-насмешливый у одного, невозмутимо-спокойный у другого — скрестились.
— А что потом? — спросил Алатристе.
— А наплевать, что потом.
Вот, значит, к какому взрослому разговору оказался я допущен. И сидел, на полпяди открывши рот, до того пересохший от волнения, что я собирался уж встать, подойти к столу и без спросу налить себе что там оставалось в кувшине. В эту минуту Алатристе коротко глянул на меня. Потом поднялся. Поднялся так медленно, словно все тело затекло и повиноваться отказывалось.
— А что слышно о твоем родиче, — о капитане Фальеро?
— Я только что говорил с ним. Как и все прочие, он готов идти дальше, если только сегодня ночью кто-нибудь убьет дожа.
— Если кто-нибудь убьет дожа, ты сказал?
— Да. Я так сказал.
Они стояли у стола лицом к лицу. Лица их были освещены снизу, и оттого еще резче выделялась суровая резкость черт. Когда я попятился к стене, понимая, что могу оказаться в этой беседе лишним, мне почудилось, что капитан улыбается.
— А кто будет чужими руками жар загребать? — спросил он.
— Я.
Воцарилась тишина — и довольно продолжительная, — которую я в оцепенении не решался нарушить не то что звуком, но даже и дыханием. Потом Малатеста заговорил — негромко, очень спокойно и непринужденно. Эти двадцать шагов, сказал он, указывая на пистолет на столе, что отделяют дверь часовни от реклинатория, он сможет преодолеть проворней и четче, чем священник-ускок. Нужно лишь, чтобы капитан занялся часовым у входа, а потом прикрыл Малатесту на то время, что будет нужно.
— Чтобы при удобном случае меня освободить.
— А если не представится такой случай? Ни тебе, ни нам?
— Я пройду вперед столько, сколько смогу. И ты, полагаю, тоже.
Капитан обернулся и взглянул на меня, словно спрашивая глазами, не найду ли я что возразить на весь этот бред, но я прочно держал язык на привязи, а рот — на замке. И тщетно пытался осмыслить и усвоить все, что услышал. И был уверен, что мой хозяин не согласится. Но тут увидел, как он провел двумя пальцами по усам, и этот до боли знакомый жест напугал меня больше, чем речи Малатесты.
— Троянский конь, капитан. Троянский конь войдет в город, — сказал тот. — Два коня. Ты и я. А остальных — в задницу.
— Кого именно?
— Да неважно. Всех.
Я наблюдал за хорошо памятным мне ритуалом сборов: капитан Алатристе одевался так же медленно, обстоятельно и вдумчиво, как облачается священник перед службой. Вымывшись до пояса, перехватив шнуром под коленями высокие сапоги, застегнув штаны и натянув поверх чистой сорочки толстый нагрудник из буйволиной кожи — весь в царапинах от давних ударов, — затянул пояс с пристегнутой слева шпагой и сзади заткнул за него кинжал так, чтобы легко было дотянуться. Пристроив с другого боку пистолет, он обвел своими заледенелыми глазами комнату, проверяя, не забыл ли чего. И остановил их на мне.
— Мы давно не разговаривали, — сказал он.
И это была чистая правда. Житье наше в Венеции, столь хлопотное и беспокойное, никак не располагало к товарищеским беседам, да и образ бедной Люциетты все еще не давал мне покоя, терзая душу запоздалыми сожалениями. Да прямо скажем, и то, как вел себя со мной капитан, лишь расширяло трещину отчуждения, давно уже возникшую между нами. Не было сомнения, что с ходом лет отцовский облик его померк в моих глазах, отуманенных дерзким задором младости, померк и расплылся. И я разрывался теперь между прежним восхищением, которое сохранял наперекор всему — да и можно ли было не восхищаться человеком такой твердости? — и уверенностью, что темные закоулки и мученические призраки, населявшие его память, все дальше уводят его от меня и от того, что было некогда нашим общим миром. И мне оставалось лишь с болью в душе смотреть на него, как смотрят на уплывающий вдаль берег, и в бессильной тревоге следить, как все плотнее окутывает Алатристе одиночество — удел, им самим для себя выбранный. И хотя в любой схватке я бросался за ним, ни о чем не спрашивая, и бровью бы не повел даже у ворот преисподней — мы, кстати, были не так уж далеко от нее, — но сейчас чувствовал, что замялся, что не готов погрузиться вслед за ним в черный омут тоски и безнадежности. Опять же, по прошествии времени, когда вместе с сединой прибавилось мне разумения, я лучше понял и это, и многое другое. Мне и самому тогда случалось кружить у закраины того же бездонного колодца и тоже водить знакомство с тенями и призраками. Но в тот рождественский сочельник, который встречали мы в Венеции, я был всего-навсего восемнадцатилетним дуралеем.
— Да, — согласился я. — Давно.
— Надеюсь, ты знаешь, сколько тебе сегодня предстоит сделать.
Я замолчал и нахмурился, словно был задет, что капитан вместо непреложной уверенности всего лишь «надеется». На самом деле его слова звучали потаенной жалобой: он словно сетовал, что из-за обилия моих дел не может поговорить со мной перед расставанием. И жалел, что, кроме как о деле, которое сейчас занимало наши помыслы, а вскоре должно было занять и руки, нам и сказать друг другу нечего.
— Будет трудно, — добавил он.
Он смотрел на меня задумчиво. И — как на близкого. Я бы даже сказал так: мое присутствие, пронимая его до самого нутра, заставляло прочувствовать, как же в самом деле мне будет трудно, и только оно одно не давало ему обрести совершеннейшее равнодушие перед лицом Судьбы. Наметанным взглядом старого солдата он оглядел мою экипировку: колет из грубой замши, кожаные гетры, перчатки, шпагу у пояса — я выбрал изделие оружейников из Бильбао с гардой в виде раковины и коротким, остро наточенным лезвием — и мой верный славный «кинжал милосердия». Словом, железа на мне было — как в бискайской кузнице. Волосы, в ту пору черные и густые, я спрятал под платком, завязанным узлом на затылке, как принято было у солдат галерного флота — этот обычай я перенял в Неаполе и потом, когда ходили к берегам Леванта. Я всегда покрывал им голову перед дракой, а без него чувствовал себя как хирург без перчаток и перстня, аптекарь — без шахмат или цирюльник — без гитары.