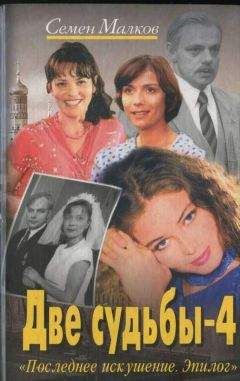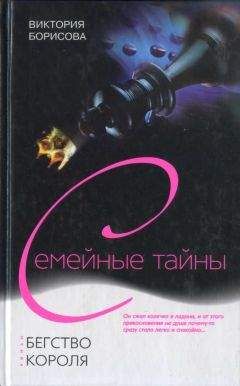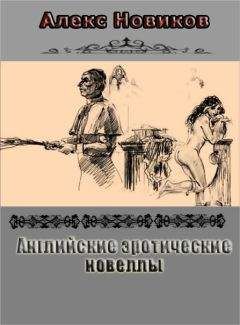Но не все паны подвергались таким бедствиям. Некоторые давали добрый отпор запорожским разбойникам; другие бросали им из сундуков одежды, и таким образом от них отделывались, но не совсем однакож: схватив добычу, запорожец подкладывал ее под себя вместо седла, и продолжал гнаться за повозкою.
— Эй, люди добрые! кричали паны поселянам, которые, подобно оторопевшим овцам, бродили по полю, — защитите нас, а то и вам тоже будет!
И озлобленные запорожцами поселяне, гнушаясь их кровавою потехою, брали под свою защиту преследуемых панов и окружали их повозки. Если ж иной негодяй и тут не отставал еще, они пускали в дело свое дубье и косы, так что не один поплатился жизнью за свою дерзость.
Некоторые прибегали еще к одному средству спасения: переодевшись из кармазинов в сермяги, вмешивались в толпы простолюдинов, и пробирались домой пешком, а лошадей и все, что при себе имели, бросали в городе на поживу запорожцам и войсковой черни.
Тогда-то поселяне поняли, в какие сети запутал их Бруховецкий, и начали собираться вокруг панов, провожая их домой и охраняя потом их хутора и сельские дворы; а паны начали придумывать средства, как бы освободить Украину от Бруховецкого и его клевретов.
Смотрит Черевань — едет из Нежина и Тарас Сурмач. Запорожцы не трогают его, потому что у него в сорочке голубая лента. В повозке с ним сидит еще с полдесятка мещан.
— Ге-ге! сказал он с горьким смехом Череваню, вот как наши поживились!
— А что там, бгат?
— Да что! Запорожские братчики так нас одолжили, что мы только ушами захлопали.
— А что ж они вам, бгат?
— Да что! Довольно с тебя того, что у бургомистра Колодея расхватали кубки, серебряные коновки, ковши, что мещане снесли со всего города на гетманский бенкет. Стал бургомистр их бранить, называть ворами, разбойниками, так едва и сам не наложил головою. «Не называй, говорят, казака вором! Теперь уже, говорят, миновалось это мое, а то твое; все теперь общее; свое добро, а не чужое разобрали добрые молодцы со стола.» Вот тебе и вольность, которою поманил нас Бруховецкий! Вот и защита от городовой старшины! Это ж еще не все. Тут одни у бургомистра пируют, а там голота разбрелась по городу да давай в крамных коморах [104] хозяйничать. Все из комор растаскали. Мещане к гетману с жалобою, а тот смеётся: «Разве ж вы, вражьи дети, говорит, не знаете, что теперь мы все, как родные братья? Все у нас теперь общее.» Так-то убрали нас в шоры запорожские братчики. Я с своими бургомистрами вижу, что беда, собрался да скорей домой, чтоб и у нас в Киеве не сделалось все общим.
— Бгатцы! сказал Черевань, выслушав рассказ своего земляка, в проклятую годину выехали мы из дому! Когда б у меня тут не жинка да не дочка, то и я сел бы с вами да и убрался б из этого аду! Нужно их захватить да вывезти отсюда!
— Да и хорошо сделаешь, добродею, когда захватишь поскорее. Я слышал, что гетман просватал твою панну у Гвинтовки за своего писаря. Есть слух, что хочет переженить и всех своих бурлак, на панянках.
— Чёрта с два просватает! заревел тут кто-то как из бочки, густым басом.
Черевань оглянулся — перед ним Кирило Тур на своем вороном коне, в сопровождении десяти товарищей.
— Чёрта с два просватает! повторил он. Уже кому что, а Черевановна будет моя. Пускай же недаром били меня за нее киями!
— Кирило! вскрикнул Петро. Кирило Тур! слышишь ли?
— Нет, не слышу, отвечал юродивый запорожец, проезжая мимо. Какой я Тур? Разве ты не видишь, как теперь все перевернулось? Кого звали недавно еще приятелем, того зовут теперь врогом; богатый стал убогим, а убогий богатым; жупаны превратились в сермяги, а сермяги в кармазины: как же ты хочешь, чтоб только Тур остался Туром? Зови меня или быком, или козлом, только не Туром.
— Да полно, ради Бога! До шуток ли теперь? Скажи на милость Божию, неужели ты опять возвратился к своей старой затее?
— Это ты о Черевановне намекаешь? А почему ж не возвратиться? Сомко твой уже у чёрта в зубах; не бойсь, не вырвется из лап у Иванца! Так кому ж больше, если не Кирилу Туру, достанется Черевановна? Ты, может, думаешь, тебе оставлю? Нашел дурака!
И помчался с своей ватогою к хутору Гвинтовки, оставив Петра в величайшем горе.
Черевань тоже стоял, как окаменелый. В этот день произошло столько дивного, ужасного и потрясающего душу, что добрый человек едва верил своим глазам и ушам. Все, что он видел и слышал, очень похоже было на неестественные события, вяжущиеся одно с другим в тяжелом сне. Ум его был всем этим наконец до того подавлен, что он не мог ни о чем думать, и стоял неподвижно на одном месте, устремив без смыслу глаза на удаляющегося от него Тараса Сурмача с его бургомистрами.
В эту минуту очень кстати явился Василь Невольник с лошадьми. Петро вскочил тотчас на седло, и, не ожидая Череваня, поскакал за Кирилом Туром; но тут перерезал ему дорогу старый Шрам.
— Куда это ты мчишься, сынку?
— Тато! Запорожцы опять хотят украсть Черевановну!
— Оставь теперь и Черевановен, и всех! Пусть себе крадут и грабят, что хочут! Ступай за мною: нам тут нечего больше делать: заклевал ворон нашего сокола.
Что на это отвечать старому, поверженному в горесть отцу? Петро, сделав над собою необыкновенное усилие, последовал за ним молча, но сердце его как будто разорвалось надвое.
— Бгатику! послышался в это время сзади голос Череваня, постой, дай хоть посмотреть на тебя.
Шрам должен был остановиться.
— Где это ты, бгат, был в эту бурю?
— Что о том спрашивать? Прощай, нам некогда.
— Да постой же! Куда ж это вы? Ну, бгат, вот я с тобою и на раде был, — чтоб ее никогда больше не видеть! А что из того вышло? Только бока натолкали да один разбойник едва не послал на тот свет! Что ж ты еще мне прикажешь делать?
— Ничего больше. Поезжай себе с Богом в Хмарище.
— А не будешь больше называть меня Барабашом?
— Теперь Барабашей полна гетманщина!
— Ей Богу, бгат, я кричал: Сомка! Так, что чуть не треснул. Эх, в несчастную минуту выехали мы из Хмарища! Как-то моя Леся услышит про эту раду!.. Постой! Куда ж это вы, бгатцы?
— Куда мы едем, там не бывать тебе.
— Да правду сказать, бгат, слава Богу, что и не бывать! Хорошо погуляли и под Нежином! Вот до которого часу толкаюсь не обедавши!
— Ну, поезжай же себе обедать, не задерживай нас напрасно. Прощай, не поминай нас лихом.
— Прощайте и вы, бгатцы! Да заезжайте при случае в Хмарище, может быть, еще раз ударим лихом об землю.
— Нет уже! Теперь нас больше не увидите, разве услышите про нас! Прощай навеки!
Приятели обнялись и поцеловались. Петро крепко сжал Череваня прощаясь, а тот, как бы поняв его чувство, сказал: