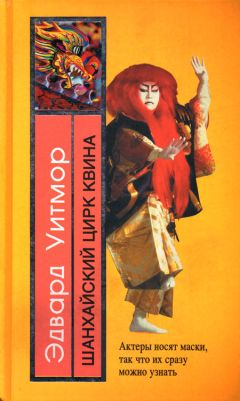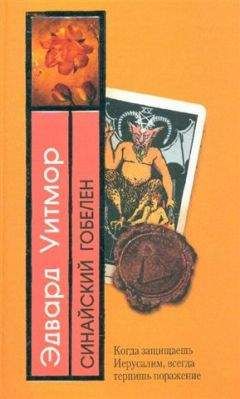Хато стоял на коленях, по подбородку у него стекала слюна. Полицейский пнул его и посмотрел, как он падает. Он стонал, подергивался, его одолел припадок, как в детстве на кровати, заваленной киножурналами. Он протянул руку, чтобы дотянуться до своих любимых предметов — перчаток, шиньонов и тюбиков из-под губной помады, — но не нащупал ничего, кроме стола-барабана. Он прокусил губу. Сглотнул. Кровь пузырилась у него на губах.
Его душил его собственный язык.
Полицейский снял с иностранца крест и надел на себя. Он вынул из кармана иностранца кусок мяса и сжал его в ладони. Мясо вспенилось белыми червями. Он бросил мясо и облизал пальцы.
В кухне он нашел несколько банок пива и блок сигарет. Он пил и курил до тех пор, пока не опустошил все банки, потом помочился в одну из них и засунул ее обратно в холодильник. Он разорвал в клочки оставшиеся сигареты и рассыпал табак по кухне.
Хато больше не дергался. Полицейский спустил брюки, чтобы навалить кучу между двумя мальчишками и почуять знакомый запах.
На станции метро он купил газету и терпеливо стоял в очереди за билетами. Все остальные пассажиры в метро обмахивались своими газетами, но он держал газету прямо перед собой и притворялся, что читает. Из Цукидзи он пешком прошел к Токийскому заливу, к концу бетонного мола, где Квин недавно стоял с бывшим шофером барона Кикути.
Ступеньки вели в воду. Огни города почти затмевали звезды. Вода была совсем черная, он приблизился к великаньим ступенькам из Тогоку и в последний раз спустился по ним.
На шее у него висел маленький золотой крестик, который тринадцать веков почитался купцами, пересекавшими Центральную Азию, крестик, который жена однажды подарила Аджару и который потом носили Мейв, и генерал, и Мама, пока обнаженный гигант не похитил его в Шанхае, похитил, чтобы сохранить, и хранил тридцать лет, пока не вернул проклятому сыну Шанхайского цирка, одинокому всаднику-монголу, у которого крестик отняли, чтобы покончить с последними невидимыми караванами, таящимися в кодовом имени Гоби, — и наконец его унесли в темное убежище в водах, туда, где сверкающие линии, составляющие его контур, больше не смогут перечеркнуть жизни тех, кто много лет носил его в честь любви и в память о любви.
Иди. Шагай.
Куда?
Какая разница? Все достойные пути скрыты внутри нас. Мой путь оказался долгим, и, быть может, твой поход тоже будет долог.
Аджар — лидеру коммунистического восстания в Шанхае в 1927 г.
Однажды сентябрьским утром, незадолго до рассвета, процессия черных лимузинов подъехала к Токио откуда-то с юга, по всей видимости, из Камакуры, где ее участники, похоже, собрались еще ночью. Лимузины въехали в город и медленно, длинной вереницей, двинулись по главной улице — все пустые, в каждом был только шофер.
Похоронная процессия ползла по улицам извивами толстой змеи, и в конце концов к середине утра весь центр города охватило гигантское кольцо скорби. К этому моменту первый лимузин нагнал последний, процессия образовала неразрывную цепь, и никто уже не мог подсчитать, сколько тысяч автомобилей участвовало в этом скорбном параде.
Поскольку ни транспорт, ни пешеходы не могли прорваться сквозь загадочное черное кольцо, магазины и конторы в Токио пришлось закрыть, а правительство объявило неофициальный выходной. Двенадцать миллионов человек вышли посмотреть на неожиданное и неслыханное событие, а в это время многие миллионы по всему свету размышляли над непостижимостью Востока — столь величественные похороны одного никому не известного человека их совершенно поразили. На самом деле это были самые грандиозные похороны, которые только видела Азия со времен Кубла-хана, но лишь один человек полностью понимал суть происходящего, тот, второй странник из тринадцатого века, который называл себя отцом Ламеро.
На газоне элегантной гостиницы, среди каменных светильников и выложенных камнями тропинок, меж искривленных сосен и миниатюрных мостов сидели двое оставшихся в живых сводных братьев и наблюдали за процессией. Кикути-Лотман теперь знал, что женщина, стоявшая на проволоке под крышей заброшенного склада, и в самом деле была его мать, но знал он и то, что его отцом был не хозяин цирка, персонаж этой истории, а герой другой, той, что началась в плавучем доме в Шанхае, когда его отца и отца Квина познакомила женщина, которую они оба любили за восемь лет до смерти, за восемь лет до цирка и Нанкина, за восемь лет до зачатия третьего сводного брата, которого теперь провожали в последний путь в крупнейшем городе мира, и только им, и бодхисатве Каннон, и стареющему императору, который давным-давно нашел приют сыновьям Мейв и Мамы, было известно, почему Токио оказался в черном кольце спустя двадцать лет после окончания войны.
Квин кивнул сам себе, Кикути-Лотман повязал новый галстук. Они наблюдали за процессией до заката, а на закате появился слуга с корзиной для пикника и расстелил на траве скатерть и разложил на ней копченую лососину и зимнюю рыбу-угольщика, муксуна и маринованную селедку, и селедку в сливках, и рольмопсы, и маринованные помидоры, и сливочный сыр, и зубцы чеснока, и оливки, и рубленую печенку, и полный поднос рогаликов.
Перед батареей блюд красовались две крохотные фигурки изо льда — мужчина во фраке, с хлыстом и рупором, и мальчик с искалеченным плечом.
У подножия холма процессия лимузинов наконец заканчивалась, и хотя для сентября было довольно холодно, две ледяные фигурки уже подтаяли. Кикути-Лотман пристально смотрел на заходящее солнце.
Немного того, сказал он, и немного этого. Иначе говоря, мы сидим на Востоке и смотрим, как солнце заходит на Западе. А что если нам повернуться?
Ледяные фигурки растеклись лужицами воды. Кикути-Лотман качнул головой. Он дунул на воду, разбрызгал ее по траве, и стекла его очков затуманились. Грустная улыбка появилась у него на лице, когда он положил на рогалик ломтик рыбы.
Рыбное ассорти, сказал он в наступающих сумерках. Угощайтесь.
* * *
Старый сухощавый император сидел очень прямо в своем пышном зале, сжимая руками набитые конским волосом подлокотники трона. Черное поношенное облачение висело на нем, как на вешалке, целлулоидный воротничок был расстегнут и помят. На столе перед ним стояла бутылка ирландского виски.
Переменчивая погода, прошептал он. Я всегда любил вторую половину сентября в этих краях. В воздухе носится какая-то тревога, какая-то загадка, хотя мы все знаем, что тайфуны — дело обычное. Это вправду бутылка, или мне только кажется?

![Эрин Моргенштерн - Ночной цирк [Litres]](https://cdn.my-library.info/books/15097/15097.jpg)