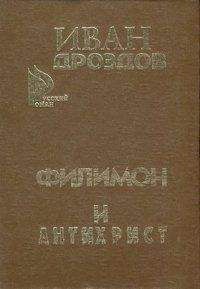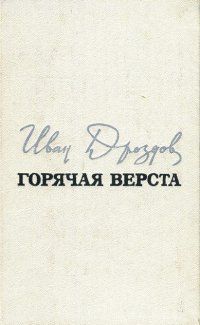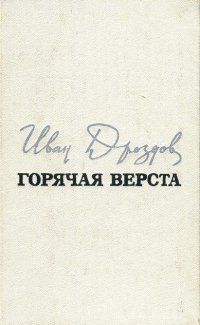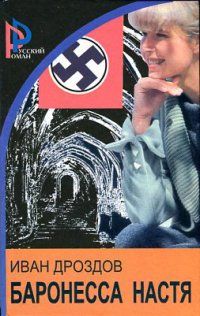Посмотрел на своего заместителя Федя — тот сидел далеко и был спокоен. Он всегда спокоен, этот невозмутимый Федь! Вошёл министр. Кто-то подвинул ему кресло — между Бурановым и Филимоновым. Наклонился к Филимонову, спросил:
— Заседание плановое?
— Да, плановое, — рассеянно ответил Николай, силясь вспомнить, в этот ли день обычно собирается учёный совет. И, вспомнив, успокоился: да, именно этот день назначен для заседаний. Значит, по плану — рядовой, обычный разговор, но зачем пришли важные люди?
Сомнения рассеялись после первых слов Зяблика. Не спеша поднявшись, подвинув к себе папку бумаг, он начал:
— Позвольте, уважаемые члены учёного совета, все присутствующие… — он вежливо поклонился залу, — народ не умещался, стоял в дверях. — Позвольте доложить о результатах поездки делегации советских учёных в Рим.
Делегация сидела тут же — по левую сторону от Зяблика и по правую. Лишь два из них представляли институт, остальных Филимонов не знал; одни из министерства, другие из академии, от Института стали и проката, от Центра чёрных металлов. Учёные именитые, при больших званиях. И тот факт, что делегацию возглавлял Зяблик, поднимало его в глазах учёного совета, всех присутствующих; и Филимонов, слушая содержательный, глубоко научный отчёт, невольно поддавался общей атмосфере почтительного внимания, невольного уважения к словам оратора.
В иных местах докладчик касался таких важных проблем металлургии, вокруг которых горячо билась мысль учёных, и сообщал сведения новые, высказывал суждения оригинальные, глубокие. И министр, и его заместители, и сам Филимонов сидели как школьники, делали записи в блокноты, заранее помечали вопросы к оратору. И не было человека в зале, кто бы не восхитился умом Зяблика, глубиной познаний учёного; мало кому приходила мысль, — Филимонов тоже об этом не подумал, — что доклад составлен не Зябликом, а членами делегации, написавшими отчёты и соображения.
Впрочем, было место в докладе, принадлежавшее исключительно Зяблику, — рассказ о встрече с итальянским математиком Вадилони. Филимонов, заслышав имя Вадилони, откинулся на спинку кресла, весь превратился во внимание. «Что смыслит он в математике? Зачем ему Вадилони?» Когда же Зяблик коснулся формулы, содержащейся в величайшем секрете и нигде не опубликованной, Филимонов слышал, как застучало у него сердце. «Формула! Неужели Зяблик знает формулу Вадилони?» — с мольбой смотрел на докладчика. И Зяблик, словно понимая душевное состояние директора, повернулся в сторону Филимонова, сказал:
— Сеньор Вадилони знает о работах нашего уважаемого директора Николая Авдеевича Филимонова, считает вас, Николай Авдеевич, своим учителем и специально для вас, собственноручно…
— Зяблик поднял тетрадь и потряс ею:
— …изобразил вот здесь свою формулу. Зяблик театральным жестом передал тетрадь Филимонову. И продолжал дальше свой доклад.
Но Филимонов не слушал. С трепетным чувством и ожиданием чего-то необыкновенного он открыл тетрадь, и песня из цифр, понятная всем математикам мира, поглотила его внимание. Зяблик походил на притаившегося у берлоги медведя охотника, готового в любую минуту выстрелить. Формула Вадилони попала в цель: «медведь» притих. Дождавшись перерыва, подошел к Зяблику, протянул руку:
— Спасибо. Формула мне нужна. Премного благодарен.
Крепко, по-медвежьи, сдавил руку. В глазах блеснули огоньки сердечной благодарности.
…И Зяблик воспрял духом. Аккуратно в девять являлся на службу, дверь в кабинет оставлял приоткрытой. «Смотрите: жив! Работаю». Впрочем, смотреть было некому, Филимонов раз-другой до обеда шмыгнёт к Ольге в операторскую, да Федь, набычив шею, дважды в день проходит в свой кабинет первого зама. Большую же часть трудится внизу, на втором этаже, в своей лаборатории. Федь — учёный, тратить драгоценное время на организаторское дело не желает.
Пусто на седьмом, директорском этаже. Не то, что бывало. Куда девались тысячи дел, мелких забот — вседневная суета, царившая здесь раньше! Бывало, только кабинет Зяблика осаждали толпами. Теперь же Зяблик хоть и вновь воцарился в «верхах», но народ к нему не идёт. Принципиальные дела решают Федь и сам директор, а так, просто зайти поболтать — теперь не принято.
Тишина на седьмом директорском. У двери кабинета Зяблика табличка: «Заместитель директора». Зяблик её «не заменил». И хотя по новым штатам заместителей у директора два — Федь и Дажин, а Зяблик числился в резерве министерства, он табличку у двери своего кабинета не заменил, про себя решил: «Всё образуется, и должность заместителя ему в министерстве откроют». И, как всякий умный человек, тщательно возделывал почву для посева.
— Пап! — говорил он порученцу. — Вы человек служивый и должны быть на месте.
— Не беспокойтесь. В нужный момент я окажусь на месте. Торчать же здесь не намерен. Есть другие дела.
Давал понять: Пап и другим нужен.
Впрочем, он теперь приезжал в институт почти каждый день, вваливался в кабинет Зяблика, усаживался в кресло. От прямых обещаний, определённых ответов уходил, предпочитал двусмысленности, намёки. Зяблику не нравилась иезуитская манера порученца, но Пап не из тех, кого можно было переделать.
— Ты не чувствуешь себя на танкере, который налетел на риф и из него выливается нефть? Как бы с нефтью и нам с тобой… — говорил Зяблик.
— Пап непотопляем. Папу бояться нечего. Глубже втискивал в кресло свою тушу, пускал словесный туман.
— Танкер — да, налетел на риф, но нефть не выльется. Институт распался на три части: отделился конструкторский отдел, отпал сектор приборов, но где они? Всё там же — под крышей «Титана». Ящерица тоже… если её за хвост схватить, кончик отдаст. Кончик! И так до самого того места, откуда хвост растёт. Сама целёхонька и невредима. А пройдёт время — хвост вырастает,
— Думаешь, образуется? Но когда? Не останутся ли от ящерицы рожки да ножки?
— На то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Того, кто за хвост дёргает, припугнуть надо. По башке хлопнуть.
Пап глубоко утопал в кресле, говорил глухо, нехотя; утром, после завтрака, в животе у него быстро образовалась пустота, и он начинал проявлять беспокойство: смотрел по сторонам, искал, нет ли тут поблизости съестного? И если не находил, то всякий интерес к делам и даже к разговору у него пропадал и он начинал дремать. Зяблик знал эту особенность порученца, позвонил секретарю:
— У меня Пап. Пожалуйста!..
Секретарша принесла чай. На стол поставила плетёнку, полную сухарей, баранок, конфет. Выходя из кабинета, стрельнула на Папа лукавым взглядом, улыбнулась. Пап и раньше замечал её насмешку, да на такие пустяки внимания не обращал. В глубине души считал себя Сократом, Диогеном, мелочность людских страстей презирал откровенно, до участия в них себя не унижал, смотрел свысока на суету людского муравейника.