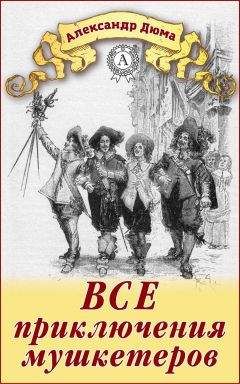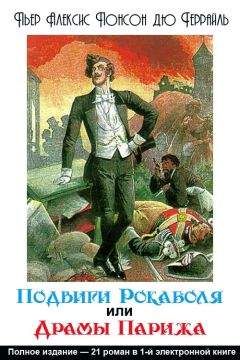Итак, молодой иностранец приехал из Парижа в почтовой карете и остановился в гостинице «Красный орел», где все было перевернуто вверх дном с его приездом, потому что там редко останавливались такие высокие гости, как он.
Хозяин гостиницы затопил все печи и поставил на ноги весь наличный состав слуг. Лишь только иностранец сел за стол в своей комнате, куда он потребовал себе обед, все залы и кухня «Красного орла» наполнились мало-помалу любопытными соседями, заинтересовавшимися этим событием и сгоравшими нетерпением узнать имя незнакомца, откуда он приехал и цель его путешествия; многие из буржуазии маленького города, любившей шпионство, охотно, из одной любви к искусству согласились бы записаться в сыщики.
Два лакея, которых видели на запятках почтовой кареты, подверглись самому строгому и подробному допросу. Но они, без сомнения, получили строгие приказания молчать, потому что, несмотря на искусные расспросы вопрошавших, оставались немы и не сказали ни имени своего господина, ни куда он едет. В полночь, когда город Б… предавался всевозможным предположениям и нисколько не подвигался вперед в своих догадках, путешественник преспокойно лег спать.
На другой день, около двух часов, почтовая карета снова была заложена. Тогда можно было видеть, как иностранец вышел из гостиницы и сел в карету. Это был молодой человек лет двадцати семи-восьми, высокий, стройный, с приятным лицом; судя по его манерам, он получил хорошее воспитание и принадлежал к аристократии. Он молча бросил нетерпеливый взгляд на толпу любопытных, окруживших его карету, и подал рукою знак ямщику, который стегнул лошадей и помчался во весь опор.
Два часа спустя молодой путешественник катил во весь дух в пустынной Берри, по ландам, покрытым вереском, окаймленным на горизонте густыми низкорослыми лесами, с изредка попадавшимися по пути отдельными избами или жалкими деревушками, иногда дорогу пересекали ручьи, которые местные жители называли реками; вся местность была пустынна, печальна и молчалива, как могила; дикие птицы да кролики, жившие в вереске, одни только и оживляли эту пустыню, по которой бродили стада под надзором какого-нибудь маленького пастушка, изнуренного и одетого в лохмотья.
— Боже мой! — прошептал путешественник, окидывая взглядом эту картину. — Как все здесь печально и наводит уныние! Если женщина, на которой меня хотят женить, живет всегда в этой Онеаиде, то я сбегу…
Закурив сигару, он окликнул ямщика:
— Эй, приятель!
— Что угодно, сударь? — спросил ямщик, польщенный тем, что путешественник удостоил обратиться к нему с вопросом.
— Где мы?
— В одном лье от Мор-Дье, сударь.
— Что такое этот Мор-Дье?
— Замок госпожи баронессы.
— Так! Но я не знаю ее, и мне нет до нее никакого дела. Ямщик улыбнулся, как бы желая сказать:
«Не понимаю, как можно не знать госпожу баронессу».
— Неужели, — продолжал допрашивать путешественник, — ни до замка, ни после него нет ни гостиницы, ни деревни, ни дома?
— Нет, сударь.
— Даже почтовой станции?
— Почтовая станция находится за Мор-Дье.
— Значит, — продолжал молодой человек, — если бы я вдруг заболел… расшибся… куда бы меня перенесли?
— В Мор-Дье, сударь. Но пока вы со мною, — добавил ямщик, — не бойтесь, несчастья не случится: я никогда не опрокидывал кареты и не расшибал своих седоков, и никогда путешественник не заболевал, когда ехал со мною.
— Отлично, друг мой! — сказал молодой человек с изумительным хладнокровием. — Однако всегда все может случиться.
— Что вы говорите, сударь? — спросил ямщик пораженный.
— Сколько ты зарабатываешь?
— Девяносто франков в месяц, сударь.
— Значит, ты охотно согласился бы заработать двадцать пять луидоров в один час?
— Черт возьми! Если бы это было возможно…
— Возможно и даже не трудно.
— Что прикажете для этого сделать?
— Попросту опрокинуть меня в четверти лье от Мор-Дье, но так, чтобы карета сломалась, не нанеся мне, конечно, никакого существенного повреждения.
— О, что за мысль? — вскричал удивленный ямщик.
— Я англичанин, — флегматично сказал путешественник, уверенный, что эти слова зажмут рот ямщику, потому что в глазах всех французов, приходящих в близкое соприкосновение с англичанами — почтальонов, кондукторов и прочих, — они способны на всевозможные оригинальные выходки и на всякие сумасбродства и эксцентричности.
— Итак, в четверти лье от Мор-Дье…
— Понял? — спросил молодой человек.
— Слушаю, сударь.
— Ты должен помнить, что если ты осмелишься болтать об этом приключении завтра или после…
— О, будьте покойны, — сказал ямщик. — Я буду нем. Путешественник открыл бумажник, достал пятисотфранковый билет и подал ямщику.
— Если в течение трех месяцев я убежусь, что кроме меня и тебя никто не узнал о том, что было между нами, то ты получишь второй билет такого же достоинства.
Ямщик, пораженный такой щедростью, спрашивал себя, уж не везет ли он переодетого короля.
Путешественник взглянул на часы; было восемь часов, и наступала одна из темных, хотя в то же время лунных и звездных ночей. Однако все же можно было различить возвышавшуюся вдали цепь холмов, окаймлявших равнину, уже описанную нами, и белевший вдали замок Мор-Дье. Ямщик указал на него концом кнута.
— Прекрасно, — сказал молодой человек. — Поезжай еще минут десять, а затем опрокинь меня.
В то время, когда лицо, взволновавшее так сильно жителей города Б… продолжало свое путешествие, баронесса, как ее называл почтальон, находилась одна в Мор-Дье.
Аврелия Мор-Дье, вдовевшая уже год после смерти барона, продолжала носить траур и была все время печальна, что редко бывает со вдовами. Баронесса сидела в громадной зале, той самой, где мы застали ее в первый раз, когда умирающий Мор-Дье сделал ей ужасное признание; она сидела одиноко перед камином, подкатив к себе маленький столик, на котором лежала полуоткрытая книга и стоял канделябр с двумя свечами. Книга была «Подражание Иисусу Христу». Баронесса читала, но чтение часто прерывалось печальными размышлениями, причем на длинных ресницах баронессы появлялись слезы. Госпожа Мор-Дье все еще оплакивала мужа, и горе ее было так же жгуче, как и в первые дни после вдовства.
Она любила своего старого мужа с почтительною и страстною дочернею нежностью и решила жить только воспоминаниями о нем. Для нее этот умерший с улыбкой на устах супруг, которому она служила утешением, старик, с печальным существованием которого она с таким самоотвержением соединила свою молодость, был единственной привязанностью, единственным звеном, приковывавшим ее к жизни.