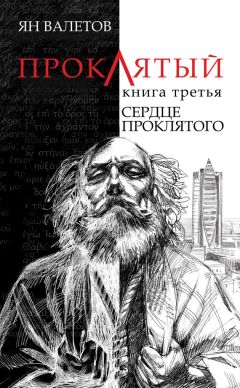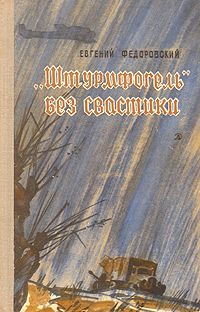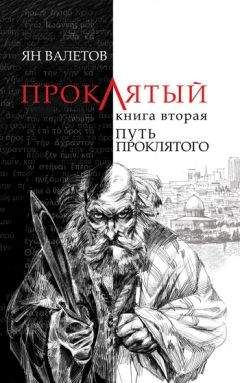Ознакомительная версия.
Да, Сеян покровительствовал Пилату — это и отрицать было глупо. Именно Луций Эллий Сеян испросил у Тиберия назначение Пилата в Иудею, именно ему Пилат всегда тайно направлял второй экземпляр отчета о делах в провинции и слал подарки не менее дорогие, чем Цезарю. Но никогда, всадник Золотое Копье готов был поклясться всеми богами, НИКОГДА консул не беседовал с ним о заговоре против императора, не злоумышлял на жизнь Тиберия.
Пилат не мог спорить с императором — тот был уже мертв, а с мертвыми, как известно, не поспоришь. Новый Цезарь, Гай Калигула, забыл о его существовании, и на это нельзя было жаловаться. Скорее уж, бывшему прокуратору нужно было радоваться и молить богов, чтобы молодой император о нем не вспомнил. О Гае Германике ходили нехорошие слухи, его слова «Пусть ненавидят, лишь бы боялись!» говорили о новом правителе Рима многое, если не все. Тиберий долго колебался в выборе преемника, и вот: его избранник сегодня приводит в трепет и патрициев, и простых граждан, и рабов.
Молодой, свирепый, безжалостный — качества, которые обеспечат Калигуле место либо в Пантеоне, либо на копьях легионеров. Если то, что рассказывают о Сапожке[7] — правда, то последние минуты Тиберия были не из приятных. Дожить до глубокой старости, благополучно уничтожив всех врагов и многих друзей, которых тщеславие могло сделать врагами, чтобы тебя задушили ворохом покрывал в собственной постели? И кто? Твой же ставленник и любимчик — Макрон, уже присягнувший новому хозяину Калигуле?
Строму властолюбцу еще повезло, он не слышал, как народ, который еще вчера кричал ему здравицы, орал под окнами: Тиберия — в Тибр! Тиберия — в Тибр!
Какая незавидная доля для того, кто еще год назад считался одним из самых любимых плебсом и знатью правителей!
Пилат, до того монотонно вышагивающий по засыпанной мелким камнем дорожке, остановился и вытер выступившую на лбу внезапную испарину.
В саду было прохладно, со стороны моря дул ветерок, и листья апельсиновых деревьев шелестели, перешептываясь между собой. Но стоило сделать шаг из тени, как кожу обжигало жаркое солнце. С каждым годом Пилат все хуже переносил жару и все меньше разбирался в хитросплетении дворцовых интриг. Это было очень небезопасно — государевы люди должны были следить за малейшими изменениями в политических раскладах, иначе любой из них в момент мог кануть в безвестность или получить приказ умертвить себя. Ослушаться такого приказа мог только тот, кто не боялся мук или был готов стать беглецом, в спину которого всегда будет дышать возмездие. Но Пилату было не до того, чтобы вникать в расклады. Плохое уже свершилось. Для человека, привыкшего вершить судьбы провинций и стран, нынешнее положение казалось равносильным смерти. Вынужденное бездействие, неопределенность, отстраненность от огромного, вечно работающего аппарата имперской администрации заставляли римского всадника скрежетать зубами и жадно пить вино, чтобы утопить в нем свое горькое бессилие.
И ещё…
Он разучился скрывать свой страх. Не от окружающих, нет! Тем и в голову не могло прийти, что Золотое Копье способен бояться. Он разучился скрывать его от себя, и это было по-настоящему плохо.
И друзья, и враги считали, что он давно утратил страх. Разве мог чего-нибудь страшиться человек, бросивший свой манипул на тысячный отряд германцев? Разве мог бояться человек, столько лет ставивший коварных иудеев на колени?
На самом деле никто (возможно, Прокула могла догадываться об эмоциях мужа, и то вовсе не обязательно) не знал истинного Пилата Понтийского. Бесстрашный Пилат, переживший битву при Идиставизо, многолетнюю войну с евреями и Вителлием, милость и немилость правителей, предательство ближних, на самом деле всегда боялся. Причем боялся он не смерти — ему ли, воину, всаднику, получившему прозвище Золотое Копье, бояться смерти?! Он боялся унижений, боялся того, что его могут лишить завоеванной кровью славы, уважения, богатства, наконец! Былая слава и деньги — неважное сочетание и долгой жизни не способствует. Рано или поздно кто-нибудь из дворцовых прихлебателей вспомнит о «враге народа», отозванном из вечно мятежной провинции по навету легата Сирии Вителлия. Вспомнит и о том, что бывший прокуратор вернулся домой с немаленьким состоянием, и захочет отобрать то, что с таким трудом было нажито за годы, проведенные в знойной сумасшедшей стране.
И тогда Калигула пришлет к нему преторианцев, чтобы арестовать. Или просто письмо с приказанием покончить жизнь самоубийством. А потом, когда его и его Прокулу найдут в полной крови ванне, саму память о нем сотрут, как недавно стерли память о могущественном Сеяне. И все, что он сделал за годы жизни, все, ради чего рисковал, лгал, убивал, плел интриги и подставлял грудь под чужое железо — пойдет прахом. Вот это было страшно! А умереть…
Умереть — это ерунда!
Пилат вышел к бассейну. Вода в выложенной мозаикой чаше была чиста и прозрачна. Только у низкого бортика билась на поверхности упавшая муха, и треск ее мокрых крылышек и надсадное жужжание были хорошо слышны в тишине безлюдного сада.
Слуг прокуратор удалил. В доме оставалась кухарка, пожилая фракийка с усталым бородавчатым лицом и молодыми, гладкими руками девушки, садовник-египтянин, которого Пилат не видел вовсе — тот умел ухаживать за огромным садом так, чтобы не попадаться на глаза угрюмому хозяину, да секретарь, недавно нанятый прокуратором — грек средних лет с черными и блестящими, как спинки скарабеев, глазами, знающий, кроме латыни и греческого, еще арамейский и хибру.
Нанимать для работы с архивом иудея Пилат не стал бы, слишком уж эти фанатики надоели ему за годы службы, но — вот незадача! — кое-какие из документов, привезенных им из Ершалаима, были написаны на тамошних наречиях. Пилат говорил на арамейском и понимал хибру, но говорить, понимать, писать и переводить — совершенно разные вещи. Поэтому грек-полиглот оказался ценой находкой. Он был услужлив, аккуратен, молчалив и обладал красивым разборчивым почерком — о чем еще можно мечтать? Найти такого человека в Остии было великой удачей.
Остия — не Рим, это в Риме можно нанять кого угодно и на какую угодно работу. В Остию приезжали отдыхать, расслабиться, подышать морским воздухом, напоенным ароматом трав и хвои, привозя всех слуг с собою из столицы. Пилату же въезд в Рим был заказан, приходилось обходиться тем, что попадалось под руку. И если кухарка, садовник и слуги, присматривающие за домом, были остийцами и жили здесь, то прежний секретарь мало того, что был римлянином и жил в столице, так и того хуже — взял и скончался за полгода до возвращения хозяина.
Ознакомительная версия.