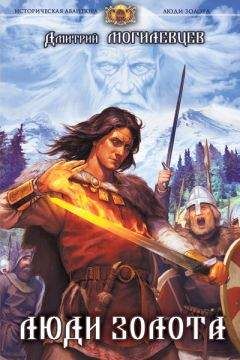— Что вы сделали с моим сыном, дон Рамон? — снова спросила она, видя, что он не отвечает.
Дон Рамон нерешительно взглянул на нее и отвернулся.
— О! Вы убили его! — воскликнула она, ломая руки.
— Нет, нет! — отвечал дон Рамон, испуганный ее отчаянием.
Он понял, что ему невозможно уклониться от ответа. Мать требовала отчета о судьбе своего ребенка, и первый раз в своей жизни принужден он был подчиниться ее воле.
— Что сделали вы с ним? — снова спросила она.
— Вы узнаете все позднее, когда успокоитесь, — отвечал он.
— Я спокойна, — возразила Хесусита. — Зачем изображать сострадание, которого в вас нет? Мой сын умер, и вы убили его!
Дон Рамон сошел с лошади.
— Хесусита, — сказал он, взяв жену за руки и с глубокой нежностью смотря на нее. — Клянусь тебе всем, что есть священного в мире, что сын твой жив. Я не убивал его.
Бедная мать на минуту задумалась.
— Я верю вам, сеньор, — сказала она. — Что же вы сделали с ним?
— Что сделал? — нерешительно проговорил дон Рамон. — Ну хорошо, я скажу вам все. Я оставил сына вашего в пустыне; но дал ему все нужное для того, чтобы не умереть с голоду и защищаться в случае опасности.
Хесусита пошатнулась. Нервная дрожь пробежала у нее по телу.
— Какое великодушие! — насмешливо воскликнула она. — Да, вы поступили очень милосердно с моим сыном, дон Рамон. Вам неприятно было убивать его, и потому вы предоставили это диким зверям и жестоким индейцам. Только они одни и живут в этой пустыне.
— Он виновен! — вполголоса, но твердо отвечал дон Рамон.
— Ребенок никогда не виновен в глазах матери, кормившей его своим молоком!
— горячо возразила Хесусита. — Вы осудили своего сына, сеньор, — я спасу его.
— Что хотите вы делать? — спросил дон Рамон, пораженный ее решительным тоном.
— Какое вам до этого дело? Я исполню свою обязанность так же, как исполнили вы то, что считали своим долгом. Пусть рассудит нас Бог! Настанет час, когда он потребует у вас отчета за кровь вашего сына!
Дон Рамон опустил голову и, побледнев, тихо вошел в дом. Его мучили угрызения совести.
Хесусита молча проводила его глазами.
— Помоги мне, Боже! — воскликнула она, когда он притворил дверь. — Я должна поспеть вовремя.
В сопровождении Эусебио Хесусита подошла к группе деревьев.
Там стояли две оседланные лошади.
Они сели на них.
— Куда поедем мы, сеньора? — спросил дворецкий.
— Искать моего сына, — твердо отвечала она.
Надежда спасти Рафаэля оживила ее: яркий румянец горел у нее на щеках, глаза блестели.
Эусебио отвязал четырех великолепных собак. Он дал им понюхать рубашку Рафаэля, и они с громким лаем побежали вперед. Хесусита и дворецкий радостно переглянулись и поскакали за ними.
Собаки не могли сбиться с дороги. След шел прямо, никуда не сворачивая, и потому они бежали, не останавливаясь ни на минуту.
Когда Хесусита подъехала к тому месту, где дон Рамон оставил Рафаэля, юноши уже не было там. Он исчез!
Полупотухший костер дымился на песке. Должно быть, Рафаэль ушел отсюда не больше часа тому назад.
— Что же нам делать? — спросил Эусебио.
— Ехать дальше! — решительно отвечала Хесусита и поскакала вперед.
Эусебио поехал за ней.
Вечером того же дня страшная суматоха поднялась на асиенде дель-Милагро.
Хесуситы и Эусебио не было нигде: они не вернулись домой.
Дон Рамон отдал приказание садиться на лошадей. Через несколько минут все рабочие и вакерос, с факелами в руках, уже выехали вместе со своим господином на поиски сеньоры и дворецкого.
Так прошла вся ночь.
На заре нашли полуобъеденный труп лошади Хесуситы. На ней не было ни седла, ни уздечки.
Около этого трупа земля была взрыта — видно было, что здесь происходила страшная борьба.
Дон Рамон, потерявший всякую надежду, велел ехать назад.
— Боже, Боже! — воскликнул он, вернувшись домой. — Неужели уже начинается расплата?
Проходили недели, месяцы, годы, а тайна все еще оставалась неразгаданной. Несмотря на самые тщательные розыски, обитатели асиенды так и не узнали, что стало с Рафаэлем, его матерью и дворецким.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
В западной части Соединенных Штатов, на протяжении нескольких сотен миль от берегов Миссисипи, лежит дикая, незаселенная страна. Там не видно ни хижины белого, ни вигвама индейца. Местами поднимаются там мрачные леса с тропинками, проложенными дикими зверями; местами расстилаются прерии, покрытые высокой густой травой, которая волнуется, как море, при малейшем дуновении ветерка. Несколько рек протекают там. Самые значительные из них: Канада, Арканзас и Ред-Ривер.
На великолепных пастбищах бродят бесчисленные стада диких лошадей, бизонов, лосей и других животных, которых человек оттесняет все дальше и дальше в глубь страны.
Сюда же приходят на охоту и самые могущественные индейские племена.
Делавары, крики, озаги — держатся недалеко от границ пустыни, поблизости от поселений белых, с которыми уже начинают вступать в сношения. Они ведут постоянные войны с пауни, черноногими, команчами и другими независимыми племенами, кочующими в прериях или живущими в горах. Ни одно из племен не осмеливается предъявлять право на эти незаселенные земли как на свою исключительную собственность, но все они опустошают их. Отправляясь на охоту, они соединяются целыми шайками и снаряжаются как на войну.
Да и немудрено, так как на каждом шагу они рискуют встретить или диких зверей, или врагов. Охотники, трапперы, авантюристы — так же страшны для краснокожих, как и враждебные индейские племена.
Таким образом, прерии, где происходят постоянные войны и идет беспощадная резня, кажутся каким-то громадным кладбищем, на котором ежегодно погибают тысячи отважных людей.
Трудно представить себе что-нибудь величественнее этих прерий, так щедро одаренных природой. С восторгом смотрит путешественник на зеленые пастбища, густые леса, широкие реки, с наслаждением прислушивается к пению скрытых в зелени птиц и к журчанию пробегающих по камням ручейков. Но посреди этой чудной природы ему ежеминутно грозит опасность, и он нередко платит жизнью за свою доверчивость.
Был конец сентября 1837 года, наступил уже вечер — оставалось не больше часа до захода солнца. В одной из самых пустынных частей прерии сидел около костра человек, по цвету кожи белый, но одетый совершенно так же, как одеваются индейцы. Ему было не более тридцати пяти — тридцати шести лет, несколько глубоких морщин прорезывало его высокий лоб, и потому он казался старше.