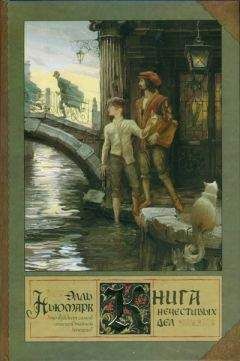Через несколько недель Марко надоело обзывать меня идиотом, и он лишь презрительно фыркал, когда я вынимал изо рта кусочек пережеванной рыбы и давал Бернардо слизывать с кончика пальца. Однажды утром котенок отправился самостоятельно добывать себе еду.
— Скатертью дорога! — прокомментировал мой товарищ.
Но, к его разочарованию и моему облегчению, вечером Бернардо нас нашел. Все кошки обладают чувством дома, но у Бернардо в этом отношении был настоящий талант.
Он вырос в тощего рыжего кота, охотился на рассвете и на закате — в эти магические для семейства кошачьих часы, — но с наступлением темноты неизменно меня находил, начинал мурлыкать и тереться о ногу. Я прижимал его к груди, и у меня внутри разливалась ранее неведомая теплота — насколько я себе позволял. Бернардо принимал любой кусочек, который я для него припасал, позволял себя гладить и шептать в свое маленькое остроконечное ухо. Он засыпал, устроившись у меня под рукой, и я в свою очередь успокаивался, чувствуя рядом живое тепло. Я не обращал внимания на холодные взгляды и едкие замечания Марко — ведь бедняге приходилось спать одному.
Мы с Марко никогда не обсуждали ничего до такой степени идиотского, как любовь животного. Ограничивались планами будущих проделок и бахвальством. Самое сокровенное, в чем я ему признался, было мое желание пробраться на корабль и уплыть в Нубию.[7] Я не имел ни малейшего представления, где она находится, но, вспоминая сладкие утренние часы с Кантериной и ее задушевные песни, решил, что это место стоит поискать. Пробраться на корабль было одной из моих любимых фантазий, пока Доминго, неразговорчивый прыщавый мальчуган из испанского порта Кадис, не живописал мне в красках, какая судьба ждет таких беглецов.
Доминго обычно стоял, скрестив на груди руки и упрятав кисти под мышки. А рассказывая, настолько погружался в себя, что смотрел лишь под ноги и больше мямлил и пожимал плечами, чем говорил. Однажды Марко, Доминго и я нашли в мусорной куче пакет слегка надкусанных каштанов, радостно поделили и зашагали по причалам, любуясь кораблями. Я вспомнил о своем плане сбежать из Венеции, и Доминго еще глубже засунул руки под мышки.
— Ерунда! — воскликнул он, и мы с Марко подняли на него глаза. — Мне было девять, от силы десять лет, когда я спрятался на испанском галеоне. Он направлялся в Константинополь с заходом в Венецию. На второй день меня и обнаружили среди канатов. Вытащили на палубу, и матросы принялись меня травить… — Доминго дернул плечом. — Они смеялись, и я решил, что это игра. Затем один из них ударил меня… — Он покосился в сторону бухты. — Меня заставляли выносить нечистоты и кормили помоями. Я тянул канаты, пока не стер на руках кожу, драил палубу соленой водой, которая краснела, попадая на мои волдыри и ссадины. Некоторые пинали меня, каждый раз, когда видели. Не знаю, почему они так поступали, но я научился пошевеливаться.
Тусклые глаза Доминго ожили, обычно спокойное, безмятежное лицо исказилось гневом.
— Был там один такелажник… волосатое животное с гнилыми зубами, который… — Доминго поперхнулся и прикусил губу. — Как-то вечером он застал меня врасплох, когда меня тошнило от качки, и я свесился за борт… — Мальчик крепко зажмурился. — Он прижал меня к поручням, сдернул штаны и все совершил прямо там. Прямо там!
Лицо Доминго потухло так же внезапно, как оживилось, голос опять стал монотонным.
— Остатка путешествия я не помню, но когда мы причалили в Венеции, меня выкинули с корабля. — Он топнул ногой. — Венеция нисколько не хуже Кадиса. Я могу с таким же успехом чистить карманы здесь, как и там.
Мы с Марко переглянулись, и он дружески пихнул Доминго в бок.
— Я рад, что ты оказался с нами. Когда моя мамаша-шлюха испарилась… Сколько же мне тогда было? Около пяти. Без тебя мне пришлось бы голодать.
Марко всегда величал свою мать шлюхой. Разумеется, она таковой и была, но его это нисколько не трогало. Ранило другое: его она бросила, а сестренку-двойняшку Руфину сохранила. Мать понимала, что благодаря копне рыжих волос за Руфину на улице будут предлагать высокую цену. С тех пор Марко ни одну из них не видел, но считал, что если бы повстречал сестру, то мог бы спасти ее от окончательного падения.
— Грязная путана вышвырнула меня вон, а Руфину превратила в проститутку. Но мы еще посмотрим! Пусть она знает, что я не умер и отберу у нее сестру! — Марко едва мог прокормить себя, но это не мешало ему мечтать. Он постоянно с надеждой окликал рыжеволосых проституток: «Руфина!» И частенько получал за это оплеуху.
Мы ни разу не говорили о том, что уличные проститутки живут недолго. Тот факт, что за десять лет Марко не встретил ни мать, ни Руфину, не предвещал ничего хорошего. Десять лет — это десять лет, и мы прекрасно знали, что проститутки мрут как мухи — от болезней, голода, побоев, пьянства и отчаяния. В Венеции было очень мало пожилых проституток — только молодые и мертвые. Но эту очевидную истину в присутствии Марко никто не высказывал.
Когда мать оставила плачущего сынишку в порту и скрылась с Руфиной, рядом оказался Доминго и дал ему корку хлеба.
— Ты жалко выглядел в тот день, — объяснил он. — Трясся, ревел и звал: «Руфина! Руфина!»
— Я не плакал!
— Рассказывай! Чуть глаза не выскочили от рева. Когда вас разнимали с Руфиной, вы так вцепились друг в друга, что мать ее едва оторвала. И пока тащила за руку прочь, девчонка не переставала кричать: «Марко! Марко!» У вас обоих был жалкий вид.
Губы Марко дрогнули, и он пробормотал:
— Нам было всего по пять лет.
— Знаю. Поэтому я тебя накормил.
Доминго стал учить Марко выживать на улице, как сам Марко потом обучал меня. К тому времени, когда Доминго исполнилось двенадцать, его угрюмое прыщавое лицо примелькалось по берегам бухты, и один из торговцев рыбой поручил ему убирать свой прилавок, а за это давал рыбьи головы и хлеб. Доминго честно выполнял свои обязанности. Спокойная манера вести себя понравилась торговцу, и тот сделал его своим учеником.
Мальчику повезло, но это возмутило брата его благодетеля Джузеппе, того самого, что подметал на кухне дожа: урод не мог стерпеть, если кому-нибудь улыбалась удача. От Джузеппе постоянно разило вином и потом; он был ленив, неопрятен и злобен. Его волосы поседели, и при ходьбе он слегка горбился. Когда-то он мог добиться успеха, но его время ушло, и он это прекрасно понимал.
Джузеппе был из тех людей, которых настолько одурманила выпивка, что они сдались, больше ни к чему не стремились и лишь проклинали мир. Он был жалок, но слишком злобен, чтобы вызвать сочувствие. К тому же бравировал своими неудачами, словно они служили оправданием всем его пакостям. Джузеппе придерживался философии, прямо противоположной той, что исповедовал старший повар, считавший личную ответственность самым важным в мире.