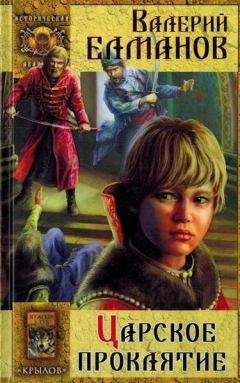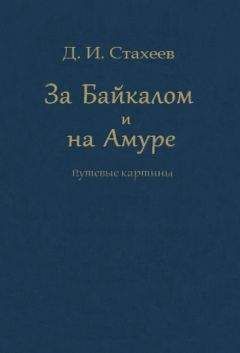— Что же это ты сполнил? — передразнил его Василий Иоаннович, будучи не просто уверенным, но абсолютно убежденным, что дальше говорить у Захарьина не хватит наглости.
— Убили мы Димитрия, яко ты повелел, — бухнул тот.
— Я?! — удивление великого князя казалось столь искренним, что Захарьин на мгновение даже засомневался — уж не почудился ли ему тот разговор один на один в покоях охотничьего терема, выстроенного всего четыре года назад.
Однако сомнения тут же улетучились, потому что в следующем возгласе Василия Иоанновича явно слышалась фальшь.
— Да как же ты мог такое удумать?! — И тут же, но гораздо естественнее, прозвучал следующий вопль: — Да как ты решился ко мне с этим прийти?!
— По повелению невинно убиенного, — флегматично пояснил Михайла и простодушно продолжил: — То его прощальная просьба была, а взамен он обещал не противиться, когда мы его давить учнем.
— Да ты! Да я! Да я тебя! — чуть не задохнулся от гнева великий князь.
Но Захарьина было не остановить, потому что, когда человеку все равно, зажать рот не просто трудно — практически невозможно, во всяком случае — словами.
— На все твоя воля, государь, — равнодушно согласился он, — но допрежь того выслушай то, что он повелел передать.
И Михайла повторил все, что сказал Димитрий. Слово в слово. Как-то вот запомнилось ему, да так крепко, что он даже ни разу не запнулся.
— И что мне с тобой теперь делать? — как-то беспомощно спросил Василий Иоаннович, поежившись от нервного озноба, почему-то охватившего его крупное упитанное тело.
— А что повелишь, — пожал плечами Захарьин.
Он не продолжил свою фразу и не сказал, что ему теперь все равно, но она и без того явственно читалось у него на лице. Великий князь не был дураком и прочитать ее смог, после чего, осекшись на полуслове, растерянно умолк и уставился на Кошкина-Захарьина, продолжавшего возвышаться над ним могучей глыбой и возвышаться не только всей своей крепкой фигурой, но и духом, который продолжал парить там, где всем все равно, следовательно, в недоступных для самого Василия Иоанновича высях. И дух этот нельзя было ни ссадить, ни сбросить, ни… Словом, ничего нельзя с ним сделать, а дожидаться, пока он сойдет вниз добровольно, великий князь не смог. На какое-то мгновение он вновь ощутил себя совсем маленьким и беспомощным, который терпеливо сносит слюнявые губы огромной матери, усердно ласкающей его и то дело приговаривающей:
— Все равно ты станешь великим князем. Все равно, все равно, все равно.
А вот маленькому Васятке было все равно совершенно иное — кем он там станет, пускай и загадочным великим князем, а главное было — вырваться из душащих его объятий, но он знал только один-единственный способ, как это сделать, точнее, одно магическое слово и повторял его как заклинание, лишь бы его побыстрее отпустили:
— Буду! Буду! Буду! — И лишь тогда она позволяла ему сползти с ее огромных слоновьих колен.
«А почему она была так уверена, что я буду великим князем?» — пожалуй, впервые за все время задумался Василий Иоаннович.
Хотя нет, чего уж перед собой лукавить, тем более сейчас. Он и раньше задумывался, но всякий раз гнал прочь от себя этот вопрос, потому что очень уж быстро приходил на ум ответ, а великий князь не хотел его слышать ни тогда, ни теперь.
От ломоты в ногах не умирают, тем более так стремительно. Вот только лекарь был жидовин и падок на золото. А еще он недавно приехал из Венеции, а до того долгое время жил в Риме. А еще он знал Софью. И все это в совокупности давало простой ответ, почему он лечил Иоанна Молодого именно так… как нельзя было лечить.
Теперь же получалось, что он сам стал продолжателем черного дела своей матери, окончательно истребив одинокий побег той, чужой ветви рода, тем самым выполнив предсмертный завет матери, которая, уже находясь на смертном одре и прощаясь с сыном, выдохнула последнее напутствие: «Добей».
Тогда он в испуге отшатнулся, с силой вырвал руку из ее горячечной и пухлой как подушка, ладони и, может быть, так и не осмелился бы на страшное, если бы не нашлась еще одна, которая иными словами, но каждую ночь по сути шептала то же самое, страшное и бесстыдное: «Добей».
И вот он выполнил, добил. А теперь из-за этого дурака, что сейчас стоит перед ним, такой же дородный, как и он сам, — ну никому ничего нельзя поручить, все самому — он, великий князь всея Руси проклят и не только лично, но и со всем своим родом, то есть братьями и сестрами.
Ну, они-то ладно, а вот то, что прокляты его дети, причем изначально, еще не успев родиться, не успев даже побывать во чреве, — это страшно.
Ему почему-то вспомнилась нелепая выдумка матери, которую она потом с упоением рассказывала своему супругу Иоанну. Будто когда она ходила молиться пешком в Троицкую обитель, ей там явился сам святой Сергий, держа на руках младенца, приблизился к Софье и «ввергнул его в ее недра», после чего она затрепетала от столь удивительного видения, с превеликим усердием облобызала мощи святого и через девять месяцев родила сына. Зачем ей понадобилось выдумывать, а потом рассказывать подобную глупость, стало понятно лишь гораздо позже — готовила отца к тому, чтобы передал бразды правления не Димитрию, а ему, Василию. Готовила преднамеренно, заранее зная, что прикончит своего пасынка Ивана, после чего десять лет терпеливо выжидала подходящий момент, не уставая повторять эту выдумку.
«Любопытно было бы знать, — подумалось ему, — а с учетом того, что он — да, да, именно он, чего уж тут юлить перед самим собой — повелел убить своего родного племянника, то кто на самом деле вверг его во чрево, из которого он появился на божий свет? Хотя чего уж тут неясно, — ответил со вздохом. — Я истинный сын не только своей матери, но и своего отца. Такой же осторожный, но и такой же жестокий, когда это возможно и не грозит никакими карами. И что мне теперь делать — истинному сыну? Как жить дальше?»
— Уходи, — шепнул он еле слышно, закрывая лицо руками. — Я тебя не забуду, как и обещал, но сейчас уходи.
Захарьин послушно двинулся к двери. Не дойдя до нее двух шагов, он повернулся и глухо произнес:
— Мне-то что ж. Я, почитай, покойник. А вот сынов…
И вышел. Остальных добровольцев-палачей Димитрия, чьи имена назвал Михайла Юрьич, Василий Иоаннович так никогда и не увидел — они не протянули и сорока дней после убийства. Каждый раз, получив известие о смерти очередного, великий князь мрачно прикидывал, когда придет очередь его самого, и каялся, каялся, каялся в содеянном. Правда, длилось это недолго, бесследно проходя и всплывая в очередной раз лишь во время осознания того, что у него так и нет наследников.