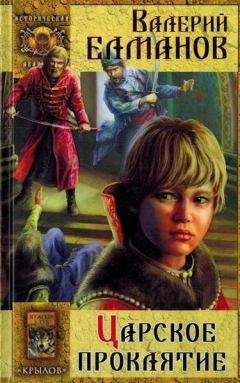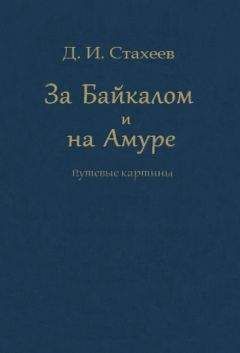Захарьин даже умилился. В эту минуту он уже представлял себя не иначе как благодетелем царевича, спасающим от мук не только его тело, но и бессмертную душу.
«Вот только руки придержать надо, чтоб он отбиться не смог, — озабоченно подумалось ему. — Иные ведь счастья своего вовсе не понимают — отбрыкиваются от него, а Димитрий телом крепок. Как начнет руками сучить — нипочем одному не управиться. Да-а, тут как ни крути, а без помощников никуда. Не меньше двоих понадобится», — и тут же мысли Захарьина приняли иной оборот, и он деловито стал прикидывать — кто из его знакомцев отважится на это дельце.
Размышлял долго, потому что здесь осечек допускать было нельзя. Опять же как подойти да что посулить. Он, Захарьин, не Василий Иоаннович, пригрозить ему нечем, а царскую кровь пролить — для многих такой смертный грех, что мало кто отважится, так что тут лучше чужаков брать. Ну вот, к примеру, Глинские, скажем, Бельские или еще кто из пришлецов. Они, конечно, князья и все, как один, Гедеминовичи, но в то же время шатко им покамест в Москве, а тут такая подпорка в руки лезет — должны ухватиться. А кого именно? Боярин призадумался, но тут сон окончательно сморил его и додумывать пришлось уже поутру. Василий Иоаннович, поглядев на помятое, невыспавшееся лицо Захарьина, лишь сочувственно кивнул головой и поинтересовался:
— Ну, как ты, оклемался от вчерашнего? — а сам настороженно продолжал буравить боярина колючим взглядом.
— Непременно, государь, — твердо ответил тот и многозначительно заметил: — Что нам, истинно верным слугам твоим, какая-то простуда? Вот остуда великокняжеская — та пострашнее.
— Ишь ты, — усмехнулся Василий Иоаннович. — Да ты пиит прямо. Эвон как заговорил: остуда — простуда. Ну, я рад за тебя, — и помягчел взглядом, оттаял, убрав льдистые колючки куда-то далеко вглубь.
…Они вошли втроем. В тесной избе, печку в которой последнее время даже истопник ленился набивать дровами, их сразу охватил озноб.
«Не разомлеешь, — поежился Михайла. — Ну, ничего. Авось мы тут ненадолго», — и тут же едва не подпрыгнул на месте от приглушенного невнятного говора за спиной.
Прислушавшись, чертыхнулся в душе — то сторож, которого всего получасом ранее Захарьин угостил медом с особым настоем, что-то там пробормотал во сне. Однако половица под его ногой все-таки предательски скрипнула, и несколькими секундами погодя раздался еще один голос, но уже спереди:
— Кто здесь?
Странно, но внук Иоанна даже не был испуганным, разве что самую малость. Не дождавшись ответа, голос повторил свой вопрос. И вновь никто из вошедших на него не отозвался.
— Вот, стало быть как, — усмехнулся Димитрий. — Выходит, по мою душу пришли, не иначе. И много ли вас?
— Тебе на что? — не выдержал один из спутников Захарьина.
— Да, думаю, хватит тут у меня тяжелого под рукой али как, — смело произнес царевич.
— Усугубишь токмо, — хрипло выдавил Михайла Юрьич и досадливо прибавил: — Лучше бы ты медку моего испил за ужином. Тебе же все равно — не ныне, так завтра, а конец един.
— Он прислал?! — в голосе одновременно прозвучали и вопрос, и ответ, но Димитрию почему-то требовалось получить подтверждение, и царевич настойчиво переспросил. — Он?!
— А то бы мы по своей воле явились, — помявшись, отозвался Захарьин. — Сидишь ты у него, ровно чиряк на одном месте, вот он и… Ты уж прости нас за ради Христа, — непроизвольно вдруг вырвалось у Михайлы, а в ответ услышал совершенно неожиданное, даже невнятное:
— Хорошо, прощу, коли исполните то, что я скажу.
— Мы… — начал было Михайла Юрьич, но Дмитрий перебил его:
— Пустяшное вовсе. Слова мои предсмертные передайте ему, и все. А я тогда не токмо прощу, но и длани не подниму, чтоб отбиться, когда давить меня учнете.
— Это можно, — согласился, не подумав, Захарьин.
— Спасением души клянитесь, что исполните, — глухо произнес узник. — Что согласны на муки адовы, ежели нарушите свое обещание.
И в зловещей тишине один за другим прозвучали три голоса:
— Клянемся.
— Клянемся.
— Клянемся.
Эх, знать бы Захарьину задумку царевича. Да что там, едва Дмитрий заговорил — и тут еще не поздно было бы кинуться на него, навечно запечатав поганый рот, несущий такое, что не произнести — слушать страшно.
«Да-а, не дотумкал вовремя, а теперь кайся, — винил себя Михайла Юрьич, уже выходя из темницы. — И что делать — ума не приложу, потому что с таким к великому князю идти — лучше сразу голову на плаху положить али удавиться втихомолку».
Он все равно успел сообразить самым первым, что надо делать, кинувшись вперед, еще пока царевич говорил, но уже больно много времени прошло, пока Захарьин, остолбенев, вслушивался в предсмертные слова царевича. Слишком много. Непозволительно много. Ему бы чуть раньше на Димитрия накинуться, когда тот только начал:
— Ведаете, что неповинным ухожу я на тот свет. Вначале мой дед отрекся от меня, теперь мой стрый, коего мне надлежит почитать в отца место. Даже мать предала, померев так рано. Изгоем стал я в своем роду. Пусть так. Но и сам я тогда отрекаюсь от своего рода. Коли со мной так, то и я тако ж, ибо сказано в святом писании господом нашим[15]: око за око и зуб за зуб, кровь за кровь и рука за руку, а за смерть токмо смерть. Но всевышний милосерд и за одну берет одно. Мне же надобно больше…
И тут было еще не поздно, но куда там — стояли как вкопанные. Жена Лота в сравнении с ними[16] — живчик юркий. Ни рукой шевельнуть, ни ногой. Придавил их царевич своими словами и этим отречением. Как есть придавил. Не слова из уст у него слетали — камни необхватные. Да как споро-то. Не успели опомниться, как он произнес роковое:
— А посему отрекаюсь и от господа. Пусть мою душу возьмет диавол и будет она ему в радость, ибо не повинна ни в чем. Пусть обречет ее на адские муки, но вначале дозволит мне мстить до тех пор, пока не изведу я весь род, в ком токмо есть семя этой византийской ведьмы! И последнего в роду ждет самая ужасная кара, ибо на нем тоже не будет тех грехов, кои ему поставят в вину, ибо сказано в писании: «Какою мерою мерите, тою и вам отмерят». Самому же Василию предрекаю…
Они все-таки очнулись и кинулись. Разом, спеша и толкая друг дружку, вся троица метнулась вперед. Но руки каждого тянулись не к горлу, а ко рту царевича, невидимого в кромешной мгле, которая и без того была непроглядной, а теперь, казалось, сгустилась еще больше. Не дать сказать ни одного слова — вот о чем они думали в этот миг, лихорадочно нащупывая его руки, ноги, грудь. Лица почему-то никак не удавалось отыскать — что-то неуловимое, таящееся в почти плотной и вязкой темноте мешало их поискам. И даже когда до него добрались, все равно губы и рот были найдены в последнюю очередь.