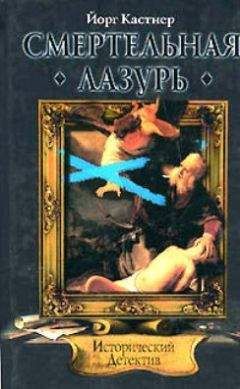– Да, потому что барон Данкварт в отпуску, и мы условились взаимно присматривать за нашими владениями.
Барон Эбергард отошел и призадумался, как будто все, что говорилось, было ему недоступно: он молча глядел на Христину и Эббо, угощающих своих гостей и отпускающих после этого воинов. Затем, решив вместе с матерью, что наступила удобная минута, Эббо почтительно подошел к отцу и попросил его сообщить приказания насчет ответа императору, которого следовало прежде всего поблагодарить за освобождение барона Эбергарда из плена, а потом решить вопрос о подданническом долге.
– Погоди, сын мой, – перебил его барон Эбергард, оживляясь, – все это меня не касается, и я не хочу и слышать об этом. Вы и ваш император, вы понимаете друг друга. Ты уже исполнил свой долг. Но зачем все переменять для старика, пришедшего сюда только для того, чтобы умереть!
– Нет, отец мой; это в порядке вещей, – вы тут хозяин.
– Я им никогда не был и не желаю быть! Сын Мой, я наблюдал за тобой вчера, и убедился в том, что даже мой отец, управлявший всем домом криками и ударами, не пользовался таким послушанием как ты, отдающий приказания своим рейтарам таким же мягким голосом, как голос твоей матери. Впрочем, чтобы я сделал с вашими мельницами и мостами? Всех ваших сеймов и лиг было бы достаточно, чтобы сбить меня с толку. Нет, нет, сын мой; я мог убить медведя, я мог поколотить Шлангенвальда до смерти, но теперь я ни на что не гожусь, кроме как на спасение своей души. Я даже подумывал сделаться отшельником; но так как моя дорогая Христина уверяет, что святые будут также довольны мной, если я буду читать молитвы вместе с ней, тут дома, то я прошу у вас лишь местечка у вашего очага; я вас никогда ни в чем не буду стеснять. Если же случилось бы замку быть в опасности во время твоего отсутствия, то придумал бы, может быть, указать солдатам, как следует защищать его!
– Ах, дорогой отец, это невозможно! Я избавлю вас от всяких неприятностей; но займите ваше место. Матушка, уговорите его!
– Дет, сын мой! Твоя мать знает, что лучше всего для меня. Оставьте меня хоть короткое время на ее попечении, и я отдохну и раскаюсь в своих грехах. Старый меч должен остаться в ножнах, а новый – дело делать! Гейнц сказал это и он прав. А ты Христина, моя дорогая подруга жизни: я знал, что ты у меня большая умница; но когда я оставил тебя такую смирную и застенчивую, совершенно одинокую, без друзей и помощи, то не думал, чтобы ты с сыном совершила столь полезные перемены…
Наступил 1531 год. На склоне горы Адлерштейнский замок продолжает красоваться, во всем своем величии, но благоденствие, царствующее там, крайне удивило бы баронессу Кунегунду. Виноградники покрывают холмы; цветы и огородная зелень прячутся в расселинах гор, и множество строений окружают древнюю башню, словно замок отодвинул для них свои стены.
Впрочем, старинная баронская зала все еще служит сборным местом всего семейства, только теперь выглядит она такой веселой и уютной, с ее стенами, обитыми резными дубовыми панелями и ее разрисованной печью; новое окно пробито в ее стене, из него открывается великолепный вид на роскошные пастбища, на мост, перекинутый через Браунвассер, на маленькую церковь с ее резной, точно из кружев, колокольней и на веселенькие хижины, резко отделяющиеся на темном фоне леса.
Окно это более всего нравится баронессе, и у него-то мы ее застаем теперь, несмотря на ее семьдесят пять лет, вследствие которых побелели ее роскошные волосы под вдовьей вуалью, носимый ею уже двадцать лет. Взгляд ее остался так же задумчив, как и в былые годы, походка также легка, и она весело любуется тремя хорошенькими девочками, прерывающими время от времени свои хозяйственные занятия, чтобы подбежать к бабушке, и донести ей на братьев своих, Эббо и Годфрида, зевающих над книгами или же посмотреть в окно, не возвращается ли из Ульма отец их с Фриделем, Максом и Казимиром, их братьями.
– Вот и они, наконец! – вскричала маленькая Виттория, первая завидев кавалькаду. – Торопись, Эрменгарда, со своим жарким! Эббо, Гот, бегите навстречу!
И старая баронесса, отложила свое веретено, с довольным видом глядя на приближающихся верховых. Когда же те скрылись за холмом, она, легкой поступью вышла на крыльцо: баронесса еще не оставила своей привычки встречать сына у подъезда, – там нежные поцелуи смыли из ее воспоминаний былые горести.
Теперь она в кругу своего многочисленного семейства. Барон, подойдя к ней, становится на колени целует ее руку, и, получив взамен родительский поцелуй, отводит ее на прежнее место с должным уважением и искренней любовью.
После нескольких слов, сказанных друг другу, все семейство, как в былые времена, садится за стол. Молодые люди почтительно молчат, исключая разве, когда барон похвалит стряпню Эрментруды, или же юный красавец Максимилиан, наследник благородного дома Адлерштейнов и гордость семьи, с воодушевлением начнет рассказывать о виденном им в Ульме каком-нибудь необыкновенном оружии. По окончании обеда, все семеро детей, церемонно поклонившись, удаляются, к печи, в сопровождении своих собак, откуда вскоре слышится их веселый говор.
В их глазах, отец с бабушкой одного возраста. Восемнадцать лет разницы совершенно уничтожились. Бодрая старость бабушки и озабоченная грусть сына, посеребрившая его волосы и бороду, – совершенно сравнили их. Строгое одеяние барона было из черного бархата, с кружевным воротником, без всяких украшений, кроме ордена Золотого Руна и кольца, подаренного ему в былые времена императором Максимилианом.
Проводив капеллана, барон отвел мать свою к любимому окну, и уселся с ней рядом, с видом полнейшего довольства, словно теперь только он мог вкусить истинное спокойствие.
Против места, избранного бароном, висела на стене великолепная картина. На картине этой нарисованы били две фигуры: одна, изображающая самого барона, во всей его мужественной красе; другая была женщина, но до того молодая, что ее можно было бы принять за ребенка, если бы не задумчивая кротость взгляда, обличающая в ней супругу и мать. Это воздушное свидание, казалось, только и удерживалось на земле силой мужественной руки, держащей ее миниатюрные ручки, и взглядом, полным любви, бросаемым ею на мужа.
Посмотрев с любовью на портрет, барон обратился было к своей матери, но тут подбежала маленькая дочка его.
– А что это ты, Виттория? Разве здесь лучше? Смотри, как там весело…
– Нет, – отвечала девочка, – если позволите, то я лучше послушаю ваш разговор с бабушкой.
– Посмотрите на нее, матушка, ведь у нее одной ваше лицо, а глаза Фриделя. Слушая наши серьезные разговоры, не хочешь ли ты походить на свою благородную крестную мать, маркизу Пескиер?