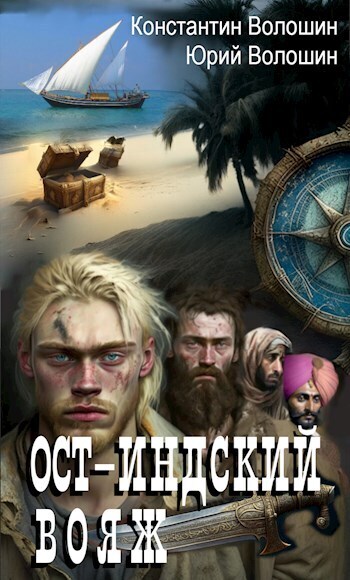сильном волнении. — Я на базаре видела человека из моего селения. Я так испугалась!
— А что это тебя так напугало? — удивился Сафрон.
— Я не уверена, что он меня узнал, но вполне мог. А это мне не понравилось. Я поспешила домой.
— Но что с того? Почему это тебя так расстроило и испугало? Ты же была почти во всем английском,
— Он на меня посмотрел, я опустила голову и тут же ушла. А вдруг узнал! Ведь я неприкасаемая! Что будет, если он меня все же узнал?
— Не думаю, дорогая моя! Успокойся и не стоит так волноваться. А где деревня твоя, я так и не понял из твоих рассказов.
— Я говорила, сахиб. День пути на юг.
— Кстати, ты никогда не говорила о детях, Пана. Они у тебя были?
Она понурилась и долго молчала и уступила лишь по настоянию Сафрона.
— Незадолго до смерти мужа их забрал наш раджа. За какие-то долги мужа. Мне так тяжело было вспоминать это, что я никогда об этом старалась не говорить, мой сахиб! Прости меня, глупую!
Сафрон вздохнул, и расспрашивать не стал. Он стал думать о том незнакомце, который видел Панараду. Уверенности в том, что он её узнал, не было. Ведь она была так не похожа на ту крестьянку, которую он увидел в купленном домике-хижине. И платье делало её ещё больше непохожей. Однако… Чем чёрт не шутит, и тревога вновь угнездилась внутри, точа и расширяясь.
Прошло больше года. Панарада родила дочь, и та была так похожа на Сафрона глазами, что он тотчас стал боготворить её. Голубые глаза смотрели живо и с любопытством, не то, что у её братика с его большими синими глазами.
Николка был спокойным, немного даже медлительным, и с почти чёрными волосами. А у дочери они были светлые и немного кучерявились, отливая золотыми нитями. И лицом она была светлее и меньше походила на туземцев. Зато оба ребёнка имели одинаковый овал лица, удлинённый и мягкий. Прямые носики приятно посапывали во сне, а проснувшись, Николка тотчас бежал смотреть сестричку и долго неподвижно наблюдал её, явно дивясь и наслаждаясь живой куклой.
— Смотри, Пана, как Николка нежно смотрит на нашу дочурку, — улыбался Сафрон, кивая на сына.
— Да, сахиб. Ему уже пять лет, и он будет заступаться за сестру на улице.
— И в жизни, моя Рада! Так у меня на родине некоторых девушек зовут. Тебе нравится?
Женщина грустно улыбнулась, кивнула и взяла захныкавшую дочь на руки, готовясь покормить грудью.
Сафрон много работал, Панарада копила деньги, складывая на чёрный день, дети быстро подрастали, а время бежало неудержимо и быстро.
— Рада, сколько тебе лет? — спросил однажды Сафрон, и добавил: — Я сам своих лет уже не помню и затрудняюсь сосчитать. Тут года какие-то расплывчатые и незаметно проходят.
Женщина задумалась, подсчитывая.
— Мне кажется, что уже сорок два года минуло. И давно. А тебе, сахиб?
Сафрон тоже задумался. В памяти всплывали картины прошлого — Дон, казаки, Лжедмитрий и «Тушинский вор», в войсках которого они надеялись чего-то добыть для хозяйства на Дону. И побег из Москвы, который и привёл их сюда, в Индию. Странны, непостижимы повороты судьбы! И всё прикинув, он ответил:
— Думаю, Пана, что мне тоже порядочно. Тридцать пять лет определённо есть.
— Какой ты молодой, мой сахиб? Мне так неловко, что так получилось!
— Чего так, женщина? — вскинул он голову и всмотрелся в её чёрные большие глаза под почти сросшимися бровями, чёткими дугами прочертившиеся над ними.
Она смутилась и не ответила, но и так стало ясно, что её беспокоит.
Сафрон притянул её желанное тело и крепко прижал, поцеловал в алчущие губы, несколько темноватые, что единственное, что не очень нравилось казаку.
Сафрон успокоился, ещё немного подумал и молвил, ни для кого не предназначив свои слова:
— Полагаю, что сейчас тысяча шестьсот тринадцатый, или немного больший год. У нас считают годы от сотворения мира, а тут от рождения Христа. Так что мне трудно пересчитать на наше время. Но можно узнать в фактории. Там всё это великолепно знают. Им нужно.
— А нам не обязательно, — опять с грустью ответила Рада.
Торговля Сафрона процветала. Два раза в неделю он привозил рыбу в факторию и продавал по дешёвке, что было приятно чиновникам. Некоторые были с семьями и всячески экономили, готовясь вернуться на родину с деньгами.
Дочь Сафрон настоял назвать Еленой, или Хелен по-английски, что означало «солнечная». Она ведь была светлоголовой и голубоглазой. Рада не очень противилась, но предлагала имя Сунита, и Сафрон предложил дочери дать два имени, заявив решительно:
— Будем называть каждый на свой лад. Это даже интересно. Хелен Сунита!
Прошло почти два года. Никто больше не вспоминал ту злосчастную встречу на базаре.
Сафрон вернулся с рыбалки, собираясь отвезти улов в факторию, как Николка выскочил навстречу со слезами на глазах и закричал ещё издали:
— Папа! Маму убили! Её только что принесли в дом!
Тут Сафрон заметил, что на него странно смотрят соседи, и у его ворот толпится народ. Он ударил мула вожжами и скоро был во дворе. Там он с ужасом увидел уже обмытое тело несчастной Панарады, одетой и убранной сердобольными соседками.
— Её выследили какие-то люди из деревни, — говорил сосед, пожилой индус с длинной чёрной бородой и белых замызганных штанах. Его худой сморщенный торс без одежды выглядел неприятно и жалко. — Они тут же с криками принялись швырять в неё камнями. И первый же угодил в висок, и она упала.
И тут Сафрон вспомнил её рассказ о далёкой встречи с деревенским, что вроде бы не узнал её. Узнал-таки! Вот злодеи! Приехали, выследили и зверски убили, оставив двух малолетних детей! Проклятье на их дурацкие головы с их дикими обычаями!
Эти мысли молнией промелькнули в его голове, опустошили его, и он лишь старался выполнять плохо запоминающиеся обычаи местного захоронения. Всё это проходило мимо него, как в тумане. А после поминок он три дня ничего не соображал, не помнил по причине жуткого запоя.
Лишь потом, словно что-то толкнуло его в голову, он очнулся, осоловевшими глазами обвёл сарай, где он лежал, и с трудом поднялся, превозмогая головную боль и ломоту во всем теле. Добрел до лоханки с дождевой водой, ополоснул всего себя, не замечая, что одежда уже намокла, увидел безмолвный укор сына, стоящего рядом с тряпкой вместо полотенца. В хижине плакала дочь Хелен Сунита, и этот тихий, нудный плач больше всего заставил его встряхнуться и оглядеться.
— Сынок, сколько