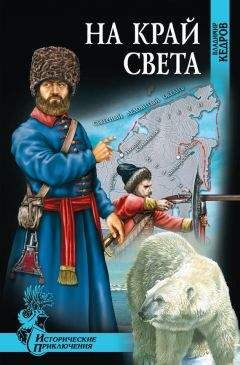— Ай да Ветошка!
— Как же ты, Федот, думаешь подтвердить? — спросил повеселевший Дежнев. — Ведь всем вам прикладывать руки под отпискою приказных, кажись, не положено.
— Напишем-ко мы, робята, за их, Семена да Никиты, отпиской и свою, — предложил Ветошка, обращаясь ко всей дружине.
— А не написать ли нам не воеводе, а самому царю Алексею Михайловичу! — предложил воспламенившийся Бугор.
— Ишь, куда хватил, рыбий глаз!
— Коль царю писать, то будет уж не отписка, а челобитная, — уточнил Анисим Костромин.
— Кстати, в той челобитной мы и о своих нуждах государю отпишем, — прибавил Ветошка.
— И о трудах наших, — вставил Бугор.
— Попросим его простить нас за побег из Якутского острога, — робко проговорил почему-то покрасневший Артемий Солдат.
Однако его предложения никто не осмеял. Все согласились, что нужно писать царю. Артемий Солдат снова вооружился пером и заскрипел им, потея пуще прежнего.
Когда ж, через несколько дней, челобитная была готова, двадцать четыре человека приложили под ней свои руки.
— Теперь, други, давайте думать, кому идти с отпиской да с челобитной на Колыму, — обратился Дежнев к собравшимся. — Заодно уж им и государеву казну «рыбий зуб» придется волочить. Что же ей залеживаться… А дело нелегкое дойти до Колымы, — продолжал Дежнев. — Перевалы переняты коряками, что погромили ходынцев. Есть ли охотники?
Никто не отозвался.
— Может, ты, Федот, пойдешь? — спросил Дежнев у Ветошки после некоторого молчания. — Твоя мысль была писать челобитную, и твоя рука под ней первая.
Долго не отвечал насупившийся Ветошка.
— Идти мне на Колыму не можно, — сказал он, наконец. — Сам знаешь, ушел я оттоль с Моторой без спросу. Посадит меня приказный под замок да отошлет в железах в Якутский острог.
— Артемий Солдат, Василий Бугор, ваше слово, — вызвал Дежнев.
— Быть нам битыми за побег из Якутского острога, — переглянувшись с Бугром, ответил Артемий Солдат.
— Не время еще нам идти, — прибавил Бугор, — пойдем — сидеть нам в тюрьме. А это, после вольной жизни, — смерть.
— Дружина Алексеев!
— Как казну мы потянем, упустив время? Апрель. Того и гляди развезет. Казну потеряем, сами сгибнем, — возразил Алексеев, избегая глядеть в глаза Дежневу.
— Трудно уволочь казну, — сказал и Степан Вилюй, впалые щеки которого говорили о начинавшейся цинге. — Распутье близко. Мы ж голодны. Едим заморную кету. Сил не хватит доволочься до Колымы…
Долго думал Дежнев после слов Вилюя.
— Ладно, — сказал он наконец. — Казну волочить обождем. Кто охотник доставить лишь отписки?
— Я бы пошел, — вслух раздумывал Иван Казанец, — да не ведаю, отпустят ли назад. А здешнюю вольную жизнь менять на батоги да на подневольщину уж больно обидно.
— «Вольная жизнь»! — передразнил Евсей Павлов. — Где ж она, коль Дежнев мне дважды по двадцать батогов всыпал!
— Был бы я приказным, я б тебе каждую субботу по двадцать батогов вжаривал, — ответил ему Казанец.
— А я б еще и по средам добавлял, — ввернул Сидорка под общий хохот.
— Однако же кому-то идти надо, — твердо проговорил Дежнев, когда тишина восстановилась.
— Ин, видно, мне идти, — прозвучал надтреснутый фальцет Сидорки.
Сидорка встал, тонкий, как жердь.
— Кто ж пойдет со мной во товарищах? — спросил он, вглядываясь в лица охотников.
— Прости, Сидорка, мил человек, — смущенно проговорил Фомка. — Рад бы я с тобой идти, да не с кем названную дочку Кивиль оставить.
— Я пойду! — вдруг прозвучал неуверенный голос.
В круг вышел молодой, неказистый с виду парень, Панфил Лаврентьев. На его круглом, курносом, веснушчатом лице было написано смущение. Он как бы извинялся за свою смелость.
Сидорка смерил его взглядом, скорчив скептическую рожу. Лаврентьев еще более смутился и покраснел.
— А дорогу-то ты помнишь? — спросил его Сидорка. — Ведь я тем путем не хаживал.
— Не знаю… — неуверенно ответил Лаврентьев. — Четыре лета минули, как мы там прошли… Может, и позабыл.
— А коряков, что переняли перевалы, не боишься? — продолжал допрос Сидорка.
— Чего мне их бояться?
— А голода?
— Апрель ноне. Олений ход близится. Перебьемся.
— А волков?
— Не. Что нам волки?
Рот Сидорки растянулся улыбкой. Сидорка взмахнул рукой, словно цепом, и хватил по плечу молодого парня.
— Идем, рыбий глаз! Погляжу я, каков ты есть землепроходец-опытовщик!
— Видать, поладили, — удовлетворенно улыбнулся Дежнев.
— А без вожа[146] нам, приказный, не дойти, — серьезно, против обыкновения, сказал Сидорка Дежневу. — Дорога, бают, путаная. Отрогов да кряжей — счету нет. Чуть собьешься, вовсе не туда угодишь.
— Хозяин Семен! — вдруг выступил Чекчой. — Я буду вожем. Дозволь, Семен.
На рассвете четвертого апреля 1655 года трое путников вышли из Анадырского зимовья. У двоих из них за плечами висели длинные пищали, в руках — рогатины. Третий, в котором можно было узнать юкагира, был вооружен копьем и луком.
Трое людей, скользя на лыжах, взяли направление вверх по Анадырю и исчезли в предрассветной мгле.
Приемо-сдаточная отпись на все государево имущество Анадырского зимовья — избы, сараи, кочи, карбасы, оружие, костяную и соболиную казну, а также и на людей — служилых, промышленных, торговых и аманатов — была подписана.
Двадцать девятого мая 1659 года Дежнев сдал зимовье сыну боярскому Курбату Иванову. После рукоприкладства под отписью Дежнев встал и отвесил низкий поклон новому приказному.
Дежнев знавал Курбата Иванова лет семнадцать назад. Тогда это был живой, жизнерадостный человек, любивший и пошутить, и встретиться с приятелем за чаркою меду. Теперь же, за месяц пребывания Курбата в Анадырском зимовье, Дежнев еще ни разу не видел улыбки на его пожелтевшем, морщинистом лице со впалыми щеками. Лицо Иванова неизменно было строгим, печальным.
Дежнев слыхивал о несчастьях, преследовавших Курбата. Лет семь назад Иванов похоронил жену. Были у него и немалые неприятности с воеводой: нечем было отдать казне ссуду, полученную для похода на Олекму-реку. Наконец, совсем недавно, по дороге на Анадырь Курбат потерял сына Федора. Правда, у Иванова остался еще старший сын Герасим, но печаль по Федору не уходила.
— Где беда ни голодала, а ко мне — на пирушку, — сказал новый приказный, прощаясь с Дежневым.
— Ты не убивайся, друг, — поддержал Дежнев старого товарища. — И не нам чета, да слезами умываются. Счастье, брат, с бессчастьем в одних санях ездят.