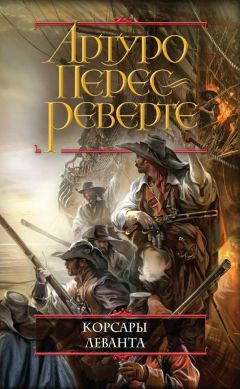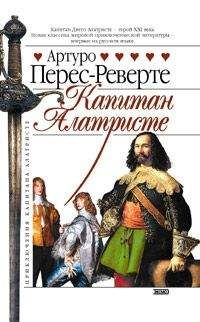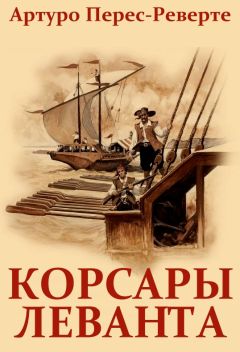В этот день атак больше не предпринималось. Когда зашло солнце, «Мулатка», неподвижная и одинокая в кольце неприятельских галер, окруженная трупами, покачивающимися на тихой воде, со ста тридцатью ранеными, уложенными чуть не штабелями под навесом, с семьюдесятью двумя выжившими, которые напряженно всматривались во тьму, — зажгла, вновь бросая вызов, кормовой фонарь. Однако песен в эту ночь мы не пели.
А наутро, когда Господь возжег свет дня, стало видно, что турки исчезли. Вахтенные разбудили нас при первых лучах зари, тыча пальцами в пустынное море, где, кроме нас, покачивались на волнах только обломки кораблей. Неприятельские галеры ушли в темноте, среди ночи, рассудив, вероятно, что не стоит одна-единственная несчастная исковерканная галера того, чтобы без счета платить за нее жизнями своих людей — а платить бы пришлось. И поначалу мы, все еще не веря своим глазам, вертели головами во все стороны, а потом убедились, что след оттоманов и в самом деле простыл, и стоило бы поглядеть, как обнимались мы, как лили слезы радости, как благодарили небеса за такую неслыханную милость, которую бы назвали чудом, если бы не знали, какой кровью и какими жертвами обошлись нам жизнь и свобода.
Больше двухсот пятидесяти человек, считая мальтийцев, погибли в этом сражении, а из четырехсот каторжан всех наций и вероисповеданий, составлявших гребную команду «Мулатки» и «Каридад», в живых осталось не больше пятидесяти. Из офицеров же — всего двое: дон Агустин Пиментель и капитан Урдемалас, сумевший впоследствии оправиться от своей тяжкой раны. Выжили Диего Алатристе, штурман Бракос, капрал Сенаррусабейтиа, вместе с генералом и двумя десятками бискайцев успевший перебраться на нашу галеру. Выжил и цыган Хоакин Хрипун, и ему по ходатайству дона Пиментеля, которому доложили, как молодецки тот обошелся с великаном-янычаром, был сокращен срок: вместо шести оставшихся лет предстояло теперь махать веслом только год. Ну а сам я, если не считать, что в последнем бою угодила мне в ногу стрела, но, попав в мякоть правого бедра, особого ущерба не причинила, кость не задела, очень дешево отделался: два месяца похромал и забыл.
«Мулатка», как уже было сказано, осталась на плаву, хотя повреждения были бесчисленны и нуждались в устранении. Откачали воду из трюма, заделали пробоины, починили кое-как настил, смастерили из чего пришлось подобие мачты, скрепили треснувшие весла, изготовили, сшив вместе несколько полотнищ, парус, с помощью которого с грехом пополам при посильном участии уцелевших гребцов и смогли добраться до суши. Там, на берегу, оказавшемся, по счастью, скалистым и диким, то бишь безлюдным, мы выставили караулы на тот случай, если нагрянут местные жители, и через двое суток авральных работ привели галеру в относительный порядок. За это время отдали Богу душу многие из наших раненых, и вместе с другими убитыми испанцами, лежавшими на борту «Мулатки», и теми, кого выловили из воды и с прибрежных отмелей, мы, прежде чем поднять якорь, схоронили их с глубокой печалью на Кабо-Негро. На погребальной церемонии надгробную речь пришлось держать моему бывшему хозяину, потому что капеллана у нас не было и отслужить литанию было некому, а генерал Пиментель и капитан Урдемалас пластом лежали по койкам. И вот, окружив свежие могилы, обнажив и скорбно склонив головы, пропели мы «Отче наш», после чего капитан Алатристе вышел, крепко почесал в затылке, сглотнул, прокашлялся и прочел за неимением лучшего четыре стихотворные строчки, которые, хоть и были взяты вроде бы из какой-то солдатской комедии или чего-то подобного, прозвучали чрезвычайно уместно и удивительно своевременно:
Вы пали с честью; нет на вас вины,
И в горние поднялись вертограды
Из рук Господних обрести награды,
Какими были здесь обделены.
Все вышеописанное, как уж было сказано, происходило в сентябре тысяча шестьсот двадцать седьмого года на Кабо-Негро, находящемся на анатолийском побережье, в виду залива Искендерон. И, покуда капитан Алатристе читал молитву, столь далекую от заупокойного канона, закатное солнце, заиграв лучами, осветило нас, застывших в неподвижности над могилами стольких добрых наших товарищей, а каждую из могил этих венчал крест, сколоченный — таков был последний высокомерный вызов — из турецкого дерева. И в турецкой земле, под рокот волн и крики морских птиц остались они лежать, чая воскресения мертвых, когда, быть может, доведется им восстать из могил с оружием своим, во славе и гордости, подобающими тем, кто служил верно. И там, над морем, куда привели их, быть может, сребролюбие и страсть к наживе, но где так дорого продали они свои жизни за отчизну свою, за своего Бога и короля, до сего отдаленного дня спят испанцы глубоким и крепким сном, какой дано вкушать одним лишь храбрецам.
Извлечения из «ПЕРЛОВ ПОЭЗИИ, СОТВОРЕННЫХ НЕСКОЛЬКИМИ ГЕНИЯМИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»Напечатано в XVII веке без выходных данных. Хранится в отделе «Графство Гуадальмедина» архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо (Севилья).
ДОН МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРАСОНЕТ В ПАМЯТЬ ИСПАНСКИХ СОЛДАТ, ПАВШИХ ПРИ ОБОРОНЕ КРЕПОСТИ ЛА-ГОЛЕТАНа сей земле израненной, бесплодной,
Где в прах была повержена твердыня,
Три тысячи солдат легли, и в сини
Стремят их души свой полет свободный.
Сперва они стеной стояли плотной,
Их тщился выбить враг в своей гордыне.
Но руки слабли, ряд редел, и ныне
Лег под мечами строй их благородный.
И та страна, где кровь лилась обильно,
Сейчас и в прошлом знала слез немало,
Живет и ныне в битве да заботе,
Но в рай она с тех пор не посылала
Душ, что пылали б доблестью столь сильно,
И столь же мощной не держала плоти[36].
Измлада приохотившийся к чтенью,
Сервантеса и Лопе ученик,
Влачась за Алатристе верной тенью,
Ты жизни суть изведал не из книг.
Поддавшийся сердечному круженью
Погибельной красой плененный вмиг,
Ты злобы стал Алькасара мишенью —
Невинной жертвой низменных интриг.
О, сколь же часто, с капитаном купно —
Друг неразлучный, спутник неотступный, —
Своею рисковал ты головой!
Но и доселе, чуждый суесловью,
Остался, отрок, раненный любовью,
Непобедим — как и наставник твой.
С Аточе — к Аркебузе…[37] здесь и там
Как тень он бродит, не простив обиду.
Окликнувший — пусть прячется во храм,
Задевший — пусть закажет панихиду.
Все дальше он идет — туда, во тьму,
Где покушенью совершиться не́ дал,
Жизнь сохранив монарху своему…
Тот, впрочем, инцидент забвенью предал.
Как прежде, он на многое горазд,
Внаймы сдаст шпагу — чести не продаст:
Жизнь без нее — кромешный срам, о коем
И не помыслив, в тот предел шагнет,
Где бытия земного сбросит гнет
И вечным будет награжден покоем.
Осуна! О, потеря для Державы!
Заставивший Фортуну подчиниться,
В Испании снискал он Смерть в Темнице.
И подвиг — не помеха для расправы.
Завидовал весь мир любимцу славы,
Свой и Чужой скорбит, презрев границы.
Фламандские Поля — его гробница,
Стихом надгробным — свет Луны кровавой.
В Тринакрии пылает Монджибелло,
Партинопей зажег огонь прощальный.
Весь мир — в слезах. Война осиротела.
Он рядом с Марсом встал в сей миг печальный.
Маас и Рейн вздыхают неумело
И вторят Тахо в песне погребальной[38].
Солдат, венчанный славой,
боец неустрашимый,
средь пламени и дыма
ты в бой идешь кровавый
отстаивать державы
величье и права!
ревнитель чести ярый!
натура такова:
скупее на слова —
щедрее на удары.