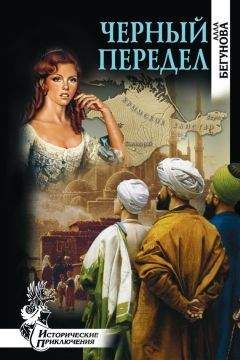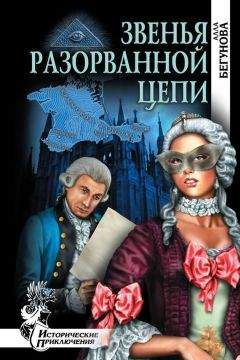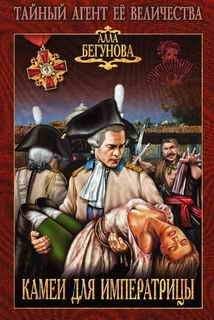Тишину здесь нарушали только удары молотка. На ближайшем ответвлении аллеи, у свежего надгробия из мелового известняка трудился седобородый мастер-камнерез Иехуда Казас из караимской общины Чуфут-кале. Стоя на коленях и часто сверяясь с каким-то свитком, он выбивал на камне надпись из семи строк на древнееврейском языке. Мастер низко поклонился важным татарским посетителям и продолжил работу.
– Когда мы победим, – сказал двоюродный брат хана, – этого байрактара я повешу…
Джихангир-ага оглянулся на камнереза в черно-каракулевой круглой шапочке и в кожаном фартуке. Тот, не размахиваясь, нанес молотком короткий удар по долоту, и от надрогробия отлетел маленький белый кусок.
– Есть надежный способ, – начал объяснять турок. – Нужно подкупить какого-нибудь караима, проживающего в цитадели. Община у них – обособленная, замкнутая, и чужаков там не любят.
– Деньги сделают свое дело, – меланхолически произнес молодой татарин.
– Кандидатура у меня имеется.
– И кто это?
– Авраам Виркович, собиратель древних книг.
– Так он, наверное, совсем не беден.
– Конечно, не беден. Но из-за неуживчивого, вздорного нрава перессорился со многими соплеменниками. Он обличал их в невежестве, чрезмерном корыстолюбии, обвинял в забвении заветов вероучителя и святого Анана бен Давида…
– Отщепенец и фанатик, – сделал неутешительный вывод Казы-Гирей.
– Именно потому он и будет нашим приобретением! – ответил турок, рассмеявшись…
Имя Авраама Вирковича все-таки всплыло сейчас в голове двоюродного брата хана. Он вспомнил и другое. Джихангир-ага даже показал ему усадьбу караима, стоящую у крепостной стены. Крышу дома можно было разглядеть отсюда, со стороны долины Марьям-дере, она находилась чуть дальше, чем крыши обеих кенас. Казы-Гирей навел окуляр на этот объект и убедился, что усадьба на месте, а из трубы хозяйственной постройки у нее во дворе вьется серый дымок.
Кавказские джигиты у него за спиной начали перешептываться, переглядываться, со звоном и стуком перебирать поводья лошадей. Им надоело стоять на узкой горной дороге, край которой обрывался в ущелье. К тому же приближалось время «уйле намазы» – полуденной молитвы. Мусульманам следовало прекратить всякую деятельность, совершить омовение лица, рук – до локтей, ног – до щиколоток, расстелить «намазлык», или специальный коврик, и, повернувшись лицом к Мекке, приступить к молитве длительностью в четыре «ракаата». Каждый «ракаат» включал в себя цикл определенных движений: поклоны, повороты головы вправо и влево, и наконец, припадание лбом к земле. Проводить эти манипуляции правильно на узком месте да еще с ориентировкой на север представлялось им невозможным.
Казы-Гирей все слышал и все понимал.
Терпению черкесов пришел конец, и они имели право выразить недовольство. Но он надеялся, что созерцание Чуфут-кале вот-вот даст ему ключ к наследству Джихангир-аги, и он вспомнит самое главное – когда, на каких условиях турок завербовал этого сумасшедшего караима, любителя древностей. Однако, как на зло, ничего нужного на ум не приходило. Пустота зияла в воспоминаниях, и лишь причудливые надгробия иудейского кладбища вставали перед его мысленным взором. Рамзан Аблоев осторожно коснулся рукава шелкового кафтана Казы-Гирея, желая отвлечь его от глубоких и бесконечных, но пока, увы, бесплодных раздумий:
– Мой господин, нам необходимо вернуться в Бахчисарай…
Не без труда черкесы развернули своих лошадей на узком пространстве над ущельем и отправились обратно. Дорога вела вниз и все больше прижималась к нависающей над ней скальной стене. Справа, на дне ущелья, сквозь кроны ореховых и дубовых деревьев проглядывала красно-черепичная крыша и часть резного портала восьмигранного мавзолея двух первых правителей из династии Гиреев: Хаджи и его сына и наследника Менгли. Он и возвел здесь ханское дюрбе в 1501 году. Недалеко от мавзолея находилось медресе Зынджирлы, одно из первых крупных мусульманских учебных заведений на полуострове, также построенное по приказу Менгли-Гирея. Через несколько минут хода слева от дороги показались белые стены зданий, как бы вросших в желтовато-серые скалы – древний православный Успенский монастырь.
Двоюродный брат хана со злости плюнул в сторону христианской святыни. Но такова была реальность Крыма: в близком соседстве здесь пребывали храмы трех религий: христианской, иудейской, мусульманской. Лучше всего свидетельствовали они о своеобразной тысячелетней истории полуострова, когда разные племена в разное время приходили сюда, и Крым становился родиной для их новых поколений.
Пещерный монастырь возник не ранее XII–XIII веков. Видимо, основали его жители православного княжества Феодоро, существовавшего в юго-западной части полуострова до вторжения османов. Многие христианские церкви и обители турки разрушили, но Успенский монастырь уцелел, став центром православия в Крыму и резиденцией митрополита. Московское правительство всегда оказывало ему помощь.
В 1778 году в истории монастыря случился крутой поворот. Крымские христиане – греки и армяне – вместе с митрополитом Игнатием переселились на берега русского Азовского моря. Они увезли с собой знаменитую икону Богоматери из главной церкви. Явление ее народу произошло 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, что, собственно говоря, и дало название самой обители. Теперь монастырь, прежде богатый и широко известный, начал постепенно утрачивать былое значение.
Но июньским полднем 1782 года фрески на фасаде пещерного храма Успения еще играли яркими красками. Купол и кресты сверкали в лучах солнца, а колокол в надвратной колокольне ударил три раза, сзывая послушников и монахов на трапезу. Всадники оценивающе взглянули на длинную лестницу, от дороги круто всходившую к крепко запертым воротам. Они давно думали, как взломать их, как добраться до парчовых священнических риз, унизанных драгоценными камнями, до икон в золотых окладах, и кассы монастыря, наверняка, не опустевшей окончательно.
Отсюда было рукой подать до Салачика, старинного предместья Бахчисарая. Джигиты ускорили бег коней и по дороге, стиснутой с двух сторон обрывами каньона реки Чурук-су, довольно быстро доскакали до мечети Тахталы-Джами. Муэдзин уже появился на балконе ее высокого, массивного минарета. Протяжное его пение – призыв на полуденную молитву – разнеслось над крышами татарских домов:
– А-алла-ах акба-ар! Ла иллаха-аилл-ал-лаху ва Мухамма-адун расу-улул-л-ла-ахи…[38]