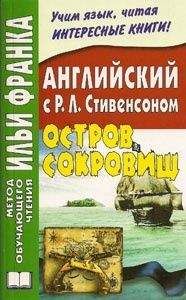Вождь кивнул, подтверждая решение колдуна. После этого роптать никто не осмелился. Ряды сарматов расступились, выпуская фракийцев.
Никогда в жизни я не видел столько признательных и сочувственных одновременно взглядов, обращенных на меня – только по отдельности. Признательностью меня награждали слушатели за мои стихи, сочувствием – друзья, провожавшие в ссылку.
Волкоголовый колдун повалил меня на спину и зацепил мой широкий кожаный пояс железным крюком, который был приделан к прочной веревке. Затем он намотал веревку на седельную луку, хлестнул скакуна и потащил Назона по дороге – так охотники волокут домой крупную добычу.
Сарматы, поначалу с интересом глядевшие на мои мучения, вскоре пресытились и ускакали вперед, горланя «домой, братья! возвращаемся!» Тяжелый, ноздреватый снег залепил мне глаза, я ослеп.
II. Назона выгоняют из поэзии, и он учит сарматский
1. На дверях земляного дома, куда меня определил старший астином города Томы, человек с недержавным лицом огородника, рокочущее имя которого я за три года так и не сумел заучить, я повесил табличку: «Публий Овидий Назон. Ссыльный поэт».
Угольные буквы, выведенные на сосновой доске, были первым, что написал я после отъезда из Города. А ведь когда я получил несусветное известие о том, что должен тотчас отправиться в изгнание, я хотел наложить на себя руки. Клялся, что вообще ничего никогда не напишу. Как же, не напишу…
Помню, как терся о мою жирную тогда еще спину северный ветер, когда я трудился над змеиным изгибом буквы «S», предпоследней буквы моей фамилии «Naso».
Мне было не по себе от мысли, что, возможно, в этом угрюмом захолустье с замогильным, квазитомным именем Томы («расчлененка» в переводе с греческого) ни одна живая душа не умеет читать на латыни. И я утешал себя предположением, что, вероятно, здесь многие читают по-гречески – раз половину населения городка составляют потомки выходцев из Аттики.
Я заблуждался насчет «многих». Читать здесь не привыкли – ни по-гречески, ни вообще. Здесь царила природа, а не культура. Разве кто-нибудь видел читающего суслика или медведя?
А вот на лингве латине один житель Томов все-таки читал и даже писал.
Его звали Маркисс. Он был лыс, быстр, тщедушен, по-детски смешлив и по-девичьи пуглив. Больше всего он походил на состарившегося римского щеголя (да и был им). Комедиантское имя Маркисс родилось как сокращение от его настоящего: Марк Сальвий Исаврик.
Маркисс, как и я, был ссыльным. Как и я, он попал во Фракию, угодив под тяжкий молот закона о прелюбодеянии. Однако, на этом сходство между нами заканчивалось.
Если я, по официальной версии, не потрафил Цезарю, грозе римских прелюбодеев, своей «Наукой любви», научающей легкомысленной чувственности, то Маркисс провинился тем, что и без помощи книг обучился всем возможным легкомыслиям еще до того, как надел взрослое платье.
Дом Маркисса, отъявленного развратника, был не меньшей достопримечательностью курорта Байи, нежели сами целебные источники, а оргии, которые устраивал там Маркисс, впечатляли даже в скупых словесных описаниях.
«Представь, Назон, однажды купил я по дешевке раба-ливийца, который хвалился, что может услаждать разом восьмерых дев…»
«Я еще усов не брил, когда одна матрона положила на меня глаз и позвала погостить на своей вилле. А там обычай такой был – из этой виллы выхода тебе не будет, покуда всех женщин тамошних не полюбишь трижды. Женщин же там было – как зерен в гранате. Одних рабынь пятьдесят с чем-то. Так я когда своим домом жить начал, тоже правило такое завел. Только вместо женщин определил мужчин!»
«Вспомнил тут, друг мой Назон, как мы с сенатором одним проверяли, какова длина женского отверстия у львицы…»
И так далее.
Всю жизнь я считал себя человеком если и не распутным, то «ознакомленным». И хотя пылкий взгляд иной недоступной красавицы всегда оставался для меня более желанным трофеем, нежели красавицыны бели, к порядочным людям я себя не относил. Лишь сойдясь с Маркиссом, я понял: напрасно не относил. Никогда и не помышлял себе Назон того, что Маркисс и сопалатники играючи проделывали в тени смокв и под сенью тыкв. О том, что именно они проделывали, Маркисс кропал книгу воспоминаний «Сад».
Восьмая глава сей омнипедии называлась «Четверо отроков, ослица, отроковица и брадобрей с двумя детородными органами». Девятая – «Те же и садовник».
В общем, когда затеянная Цезарем борьба с падением нравов достигла Байев, жители города, тайно посовещавшись, решили выдать правосудию Верховного Распутника. На роль которого был назначен Маркисс. И разве не поделом?
Скажу по совести, быть признанным первым распутником курорта Байи, куда золотая молодежь и гуляки постарше ездят именно за этим, все равно что быть выставленным из дома терпимости за неразборчивость.
Будучи наказанным Цезарем пожизненной ссылкой с лишением гражданских прав и конфискацией имущества, Маркисс, однако, не роптал и не раскаивался.
Первое вызывало уважение. Второе скорее удивляло. Ведь природа северной Фракии, здешний климат и окрестности, мышасто-серые, скудные растительностью и видами, способны были склонить к раскаянию даже в не совершённых грехах.
Маркисс жалел лишь об одном – что в бытность свою прелюбодеем мало читал.
– Косноязычный стал, ужас! Теперь вот, когда писать сажусь, слов не хватает! Взялся считать, сколько раз написал я про мужской орган «эта штука», и за голову схватился! Получилось больше, чем мне отроду лет! – однажды пожаловался он.
– Хорошо еще, что не столько, сколько лет от основания Рима, – утешил его я. Некогда яростный хулитель всяческой графомании, в Томах я от души полюбил графоманов, поскольку понял: на них, как земля на слонах, стоит континент латинской литературы, где живем мы, гении.
Довольный Маркисс сложил губы сердечком и послал мне воздушный поцелуй:
– Я, Назон, когда табличку на твоей двери впервые увидел, сказал себе: «Тебя не пускают в столицу? Насрать! Столица сама приехала к тебе!»
– Прямо уж – столица… Я-то сам из Сульмона. Провинциал.
– Ну и скромник же ты, Назон! А ведь небось самого Цезаря знаешь! И жену его Ливию! Да и всех вообще…
В сущности, не знай я Цезаря и жену его Ливию, я никогда не оказался бы в Томах, в пропахшей плесенью хатке, на обтрепанном краю мира.
2. В год, когда я родился, Цезарь делал первые шаги к первенству среди равных.
Пока он расправлялся с врагами, я воевал с риторическими фигурами в школе ораторского искусства.
Когда Цезарь принялся делать из Города – Столицу Мира, я получил высокую должность триумвира по уголовным делам. Заботился о порядке в тюрьмах, наблюдал за ночной полицией (стеречь сторожей – тяжелый труд, доложу я вам), курировал пожарные казармы. Железной рукой выпрямлял я извивный жизненный путь площадных плутов, насильников и прочих напрасных людей, постигая ту же истину, которую двадцатью годами раньше понял и Цезарь: чем выше забираешься, тем больше находится низкого, с которым ты просто обязан иметь дело.