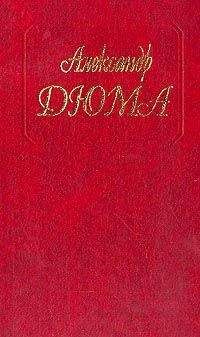Вскоре один возглас заглушил голоса всех остальных:
— Герцог! Герцог! Его высочество! Сейчас он объявит войну, благослови его Бог!
Мы, французы, даже представить себе не можем, как ведут себя южане в состоянии ярости или радости: их необузданность кажется нам безумием, и, становясь ее свидетелями, мы всегда пугаемся.
Однако в тот миг уважение одержало верх над воодушевлением, и, когда появился Виктор Амедей, все смолкли; но что это было за молчание! Как оно было красноречиво! Какими выразительными были глаза! Какими вызывающими и воинственными были позы! Сколько нетерпения было в каждом жесте!
Герцог был благороден и горд, глаза его сверкали.
Он с непривычно решительным видом поднялся на трон и, вместо того чтобы сесть, как того требовал этикет и как он обычно делал, продолжал стоять, сняв шляпу, а затем, повернувшись к двум или трем епископам, стоявшим рядом с троном, сказал:
— Господа, помолитесь за нас Богу, чтобы он ниспослал удачу нашей армии, ибо я намерен объявить войну королю Франции.
И тут же беспорядочный шум в толпе собравшихся, еще мгновение назад так отчаянно споривших между собой, превратился в единодушный порыв:
— Ура! Ура!
Из моих глаз невольно потекли слезы, так как в эти минуты и принцы, и подданные были великолепны. Виктор Амедей обнажил шпагу и поднял ее жестом повелителя. На несколько минут воцарилось такое неистовство, что тем, кто не принимал в нем участия, могло показаться, будто все присутствующие сошли с ума.
Наконец было объявлено, что герцог хочет говорить, и все замолчали так же быстро, как начали кричать.
— Господа, — начал Виктор Амедей, — я должен сообщить вам о причинах, вынудивших меня решиться на столь важный шаг. Милостью Божьей и по праву наследования это славное герцогство принадлежит мне. Никогда еще ни одно человеческое существо не унижало Савойский дом и его верных подданных, и никогда никто из живущих, как бы велик он ни был, не унизит его. Король Франции хочет посягнуть на мою честь, значит, и на вашу тоже. Он хочет провезти меня за своей колесницей как раба; он хочет отнять у меня мои города и замки; он хочет, чтобы я заплатил моей казной и кровью моих подданных за распри, вызванные его честолюбием; он хочет, чтобы я подчинялся его надменным приказам. Так могли я поступить иначе? Смириться с оскорблениями и служить его интересам только потому, что мы соседи и он могущественнее меня?! От одной этой мысли кровь закипает в моих жилах.
Возгласы присутствующих, прервавшие его речь на несколько минут, доказали герцогу, что они возмущены даже больше, чем он.
— Он угрожал мне, поскольку я отказался подчиниться, но я не устрашился этих угроз, возлагая надежду на отвагу и преданность моего доблестного дворянства; полагаясь на него, я ощущаю себя сильнее короля. Ошибаюсь ли я, господа?!
— Нет! Нет! В армию! К границам! Отправляемся немедленно!
— Не сейчас! Наши союзники приближаются, мой кузен принц Евгений Савойский идет к нам на помощь ускоренным маршем. Союзники предоставили в мое распоряжение войско и деньги: народу придется дать мне не так уж много.
— Простите, ваша светлость, — перебил его князь делла Цистерна, — хотя Пьемонт и небольшое государство, оно борется за свою честь и не должно просить милостыню ни у какой могущественной державы. Ваше высочество богаты, и у нас, знатных дворян, есть земли и значительные доходы. Наших средств хватит на все; верните деньги союзникам. Мы заплатим, не правда ли, господа?
Если бы в эту минуту герцог потребовал луну с неба, они достали бы ее. Все старались перекричать друг друга, но сделали больше: в мгновение ока все карманы были вывернуты, к подножию трона стали падать кошельки, а за ними — драгоценные украшения, часы, кольца, даже крест ордена Благовещения, усыпанный бриллиантами.
Отдав все что мог, один из дворян решил написать на клочке бумаги обязательство выплатить большую сумму из земельных доходов, и тут же остальные последовали его примеру. Никогда еще сбор средств не проходил так быстро.
На канцлера, принимавшего пожертвования, была возложена ответственность за них. Не зная, как выразить свою радость и признательность, герцог дал всем возможность поцеловать его руку; некоторые подносили к губам край его накидки; картина была очень трогательной и глубоко взволновала сердца присутствующих.
Встреча с дворянством длилась не более получаса. Но она оказалась более насыщенной, нежели многие бесконечные заседания. Виктора Амедея чуть ли не на руках отнесли в его покои; я бросилась туда: счастливый принц желал меня видеть. Стоило мне появиться там, как он бросился в мои объятия с возгласом:
— Это ваша заслуга; вы сделали меня отважным и решительным, вы научили меня любить моих подданных и защищать их; так разделите со мной мое счастье и все, чем я вам обязан.
Любовь все приписывает любви, и если принц желал стать великим, то только ради меня, ради того, чтобы я его больше любила, — такое чувство порождает героев.
В тот же вечер народу был оглашен манифест, и он был воспринят еще восторженнее.
Толпа носилась по улицам с криком: «Смерть французам!» — и бряцала оружием, угрожая банкирам и различным торговцам, постоянно приезжавшим в Турин из Франции.
Пришлось отобрать ружья и шпаги у тех, кто не был ополченцем или солдатом, иначе война началась бы со второй Сицилийской вечерни.
Я спрятала у себя в Турине и в «Отраде» многих моих соотечественников и изыскивала для них возможность покинуть Пьемонт; без этих предосторожностей взбунтовавшийся в первый момент сброд разорвал бы их на куски.
Герцог был бы тогда безутешен, а я тем более.
Собираясь уезжать, герцог расставался со мной впервые с начала нашей любви. На фоне его славы и восторга это причиняло ему жестокую боль.
Следуя примеру Людовика XIV времен его молодости, он задумал привезти с собой в армию дам и сражаться у меня на глазах; но мне было известно, какому осуждению были подвергнуты такие поступки великого монарха, и я не хотела, чтобы Виктор Амедей уподобился ему.
Было решено, что я останусь в Турине и, никуда не выезжая, буду за всем наблюдать и сообщать герцогу, что происходит в его отсутствие.
Принц еще не сталкивался с войной и сражениями и, тем не менее, шел навстречу опасности со спокойной отвагой, что бывает особенно редко и достойно уважения, если при этом человек руководствуется разумом. Он прекрасно понимал, что ему угрожает, и тревожился вместе со мной.
Наконец роковой день настал: герцог уехал! Я разволновалась не меньше его, когда, поцеловав меня, он произносил душераздирающие и страстные слова прощания и повторял, что, быть может, не увидит меня больше.