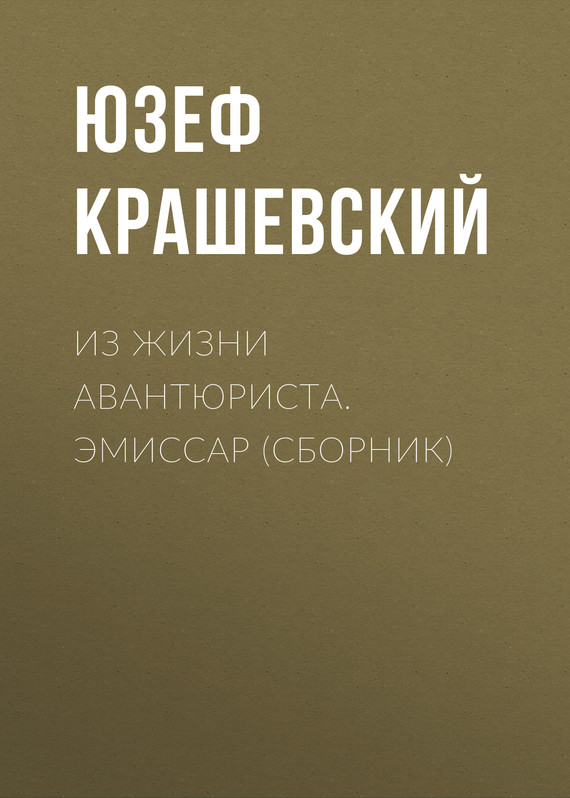тюрьме, но вместе с главным виновником приказали позже привезти их в Киев. Заловецкий был закован в кандалы и охраняем как можно тщательней.
Между тем отъехал и штабс-доктор, а надзор над Павлом был поверен власти военной полиции – местные лекари присматривали за выздоравливающим.
На вид тогда всё складывалось так, что уготованной судьбы несчастный избежать не мог. Соболезновали ему все, потому что, кто бы к нему не приближался, уходил захваченный римской энергией его характера и дивным спокойствием ума. Солдаты на страже, которым судьба его не была тайной, недоумевали, слыша его иногда вечерами поющего какую-нибудь грустную песенку. После отъезда Атаманенко панна Целина даже новости никакой от него иметь не могла. Но и она казалась дивно спокойной. Или это всемогущее время слишком живые чувства изгладило, или в сердце какая-то непонятная для других вступила надежда.
Уже среди зимы подсудок Ягловский за великими протекциями получил наконец тот временный отпуск домой, и, не теряя ни часа, забрав дочку, немедленно двинулся в Радищев. Панна Целина почти весь последний день провела в костёлах и, заплаканная, оставила местечко… издалека ещё благословляя его святым крестом. Пребывание в нём всю жизнь будет для неё памятным.
* * *
Через несколько дней после отъезда подсудка с дочкой пришли приказы из Киева, и в самой большой тайне на следующий день решили вывезти Павла. Повозка, кандалы, стража, жандармы, всё было в готовности, когда среди наибольшего спокойствия, ничем не замутнённого, как молния громыхнула весть, что тот узник, эмиссар, охраняемый как зеница ока целым отрядом солдат в белый день непонятным образом исчез.
Мы говорили уже, что он был помещён в отдельном специально для этой цели нанятом домике, неподалёку от лазарета; этот деревянный домик на каменном фундаменте состоял из сквозных сеней, с комнатой, в которой отдыхало шесть стражей, и одной комнатки, предназначенной для узника. Её окна были забиты досками, укреплёнными снаружи решёткой; кроме того, один солдат постоянно прохаживался в сенях у дверей, двое с карабинами стояли под забитыми окнами.
В канун этого дня больной был ещё в кровати, не вставал даже; вечером медик осматривал незажившую рану на бёдрах, потому что на груди затянулись и зажили. Что удивительней, утренний ещё визит доктора и медика прошёл обычным образом… узник не должен был знать, что вечером его должны были вывезти. С девяти часов утра до часу никто обычно не входил к нему, но страж ни на минуту не спускал глаз с двери… а та была закрыта на ключ. Ни малейшего шороха внутри слышно не было. Когда в обеденный час солдат, в соответствии с обычаем, отворив дверь при фельдфебеле, вошёл, принося еду, поначалу глазам своим верить не хотел, не увидев узника в комнате… и пустое ложе. Остолбенелый, он вышел спросить того, что стоял на страже, не вывезли ли его… Солдат думал, что над ним шутят.
Оба с фельдфебелем заглянули ещё раз… в комнате было пусто… никого…
Кровать стояла немного смятая, но больной исчез… Потолок и пол были нетронуты.
Для ординарных людей это казалось волшебством! Для других – неразгаданной тайной. Через полчаса на данный знак тревоги все, кто мог отвечать за этот побег, сбежались в ужасе и самом большом отчаянии в домик. Все остолбенели… через минуту уже советовались, не выдать ли его за умершего, но дело было слишком громким.
Было фактом, что лекарь и хирург его видели, говорили с ним ещё с утра, что двери были самым герметичным образом заперты, постоянная стража, окна в целости, нетронутые, всё в порядке… только того узника не хватало.
Как? Каким образом он мог так улететь? Это превосходило людское понимание…
Русские клялись, что это, должно быть, чернокнижник, но высшие урядники, не могущие допустить чуда, подозревали взаимно предательство… подкуп.
На след всё-таки напасть было невозможно. Концы пошли в воду, говорили потихоньку русские.
Комиссия за комиссией съезжались в домик, обставленный густой стражей, выстукивали стены, срывали пол, осматривали углы и, ничего не сделав, каждая из них уходила, сомневаясь в собственном разуме.
«Пожалуй, его кто вывел», – шептали они. – Но когда? Как?
Лекарь, медик, солдаты, всё было тюремное, изученное, бесплатное.
Каждый новокомандированный урядник смеялся несостоятельности предшественников, издевался, клялся, что откроет тайну… а потом возвращался с длинным носом, проклиная польские интриги и хитрость бунтовщиков, и тайные заговоры, к которым все должны были принадлежать, не исключая управления.
Когда так по очереди пять временных комиссий, военных, жандармских, секретных изучало этот несчастливый грунт, а наверху, где ожидали эмиссара, чрезвычайно возрастал гнев, наконец был откомандирован из Петербурга от шефа жандармов очень скромный и незаметный агент, немец, зовущийся попросту Пётр Шмальц. Был он родом из Берлина, но давно уже служил в России. Он славился развязыванием гордиевых узлов.
О мудрости Шмальца никто бы не догадался по его внешности; выглядел на обычного немца, неравнодушного к хорошему пиву; имел даже заспанную мину и атрибут для полицейского ненужный и даже мешающий – круглое и выступающее брюхо. Впрочем, молчал и курил трубку.
Шмальц в разных местных и заграничных миссиях дослужился до ранга коллегиального советника – не пустяк! – а в дырке от пуговицы носил целый бант ленточек. Как его местная полиция приняла, догадаться легко: прибыл из столицы! Но про себя и за глазами смеялись над ним, говоря друг другу потихоньку: что он тут выследит, когда более умные, чем он, ничего найти не смогли?
Первого дня Шмальц курил трубку и читал через очки протоколы своих предшественников… на второй день прошёл прогуляться по городку, а на третий ничего не делал, зевал, жалуясь, что пива хорошего не было. На четвёртый выбрался в домик; пошли с ним полицмейстер и достаточно урядничей черни. Шмальц вошёл в комнатку, посмотрел, взял трубку, потом сел на кровать и курил её в молчании, пока хорошо не разгорелась.
Парамин стоял на пороге с миной, полной сочувствия к репутации такого знаменитого человека, который должен был приобретённую годами славу потерять в таком маленьком городке. Вдруг немец поднял голову, улыбнулся и рукой позвал к себе полицмейстера.
– Прошу вас привести сюда нескольких человек с мотыгами и секирами.
Полицмейстер, скрывая издевательский смех и незначительно пожав плечами, поспешил выполнить приказ. Нескоро добыли у соседей мотыги и забрали в хатах секиры. Трое инвалидов стояло у порога в готовности.
Шмальц тогда медленно встал, вытряс трубку и велел сперва отставить кровать.
Под ней был такой же пол, как во всей комнате, начали его отрывать… когда вдруг одна из балок от слабого прикосновения поднялась, потому что вовсе не была прикреплённой.
Полицмейстер побледнел.
Эта балка, так легко положенная, покрывала глубокое тёмное отверстие, пробитую дыру в старом толстом своде. Шмальц указал рукой полицмейстеру, который уже и