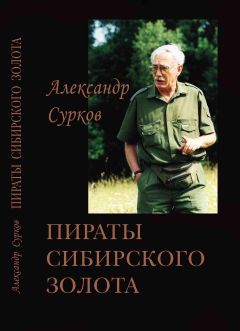— Немного. Медленно читаю.
— А священное писание не светская книга, его положено читать не спеша, с раздумьем. Возьми вон на той полке библию. Видишь зеленую закладку? Там начинается «Откровение Иоанна Богослова». Люблю эти пророческие страницы. Неоднократно перечитывала, но всякий раз, когда возвращаюсь к ним, открываю для себя все новые и новые тайны. Дивная мудрость! И не каждому дано понять вещие слова. Я всегда удивляюсь, как могла я, читая раньше, даже, скажем, накануне, не понять и не увидеть того, что открывается мне сегодня. Читай, дитя мое.
Надя села на свое обычное место напротив кресла-качалки и, положив на колени тяжелую книгу, стала читать.
Вначале она с трудом справлялась с церковнославянским текстом и не раз в замешательстве останавливалась над сокращенными словами с титлами наверху, но, прочитав страницу-другую, восстановила в памяти тайны этих титл, и дело пошло на лад. Раньше Наде не доводилось читать «Откровение». Не все понимая из церковнославянского, она все же заинтересовалась своеобразным слогом книги и стала читать не столько для настоятельницы, сколько для себя. Ее удивили и поразили суровые слова «Откровения», казалось, будто книга написана не в стародавние времена, а совсем недавно, и не о каких-то забытых событиях древности, а о том, что сейчас происходило за стенами монастыря.
— Ты все понимаешь? — спросила игуменья.
— Почти...
— Сбывается великое пророчество. Близится судный день. Горе нам, горе великим грешникам... Читай дальше.
Надя снова склонилась над книгой. Здесь говорилось о том, что настанут тяжкие дни, подымется брат на брата, сын на отца, всю землю окутают железные провода, поползут по земле железные кони, а в небо поднимутся железные птицы. Но чем дальше она читала, тем непонятнее становился текст, и вместе с тем пропадал интерес к книге. Надя на мгновение прервала чтение.
— Устала? — спросила игуменья.
— Устать не устала, а что-то не совсем понятное пошло...
— Что же именно?
— О звере: и многолик и многорук...
— Я тоже не сразу все понимала.
В это время в дверь постучали, и вошла послушница игуменьи.
— Благословите, матушка. Тут от больших ворот пришла привратница. Какая-то мирянка спрашивает эту девицу, — она кивнула головой в сторону Нади.
— Надю?
— Да, Надежду Корнееву.
— А кто такая? Зачем?
Надя поднялась, собираясь уйти, но настоятельница жестом остановила ее.
— Подожди, дитя мое!
— Кто такая — не знаю, — хмуро ответила монахиня. — Привратница сказывает, будто пришла откуда-то издалече. Дальняя родственница...
— Это, наверное, моя тетя! — обрадовалась Надя. — Папина сестра. Она живет в Урмазымской станице. Там и братишка мой Костя. Мы не виделись года три! Разрешите, я пойду!
Игуменья молчала. Видно было, что она колеблется, не решаясь сразу дать ответ.
— Положи библию на место, — сказала она, видя, что Надя все еще держит книгу в руках. — Не знаю, как быть! У нас-то из-за эпидемии запрещены свидания с мирянами. Строжайше!.. Ну, что ж, иди. Да благословит тебя бог.
Она перекрестила Надю, и та бросилась к двери.
— На обратном пути зайди ко мне, — сказала ей вслед игуменья.
Застегивая на ходу шубейку, Надя бегом неслась по тропинке, прорытой в сугробах. За ней, с трудом поспевая, торопилась привратница, молодая еще монахиня, на ходу рассказывая, как выглядит женщина. Надя ее почти не слушала, уверенная, что это тетя из Урмазыма. Надя с беспокойством думала, что же могло привести сюда тетю в такое тревожное время, да еще в зимнюю пору. Случилось несчастье? Уж не с Костей ли?.. Горечь раскаяния охватила Надю; ведь прошло столько времени с тех пор, как отправили брата в Урмазымскую, а они с бабушкой так и не собрались навестить его. И мальчишка жил там, как совсем безродный; тетка, конечно, тоже близкая родня, но не такая, как сестра или бабушка.
У железных ворот Надя и сопровождавшая ее монахиня остановились. Из небольшой кирпичной будки вышла другая привратница, постарше. Словно не замечая Надю, она обратилась к сопровождавшей ее:
— Что сказала матушка?
— Благословила, — поспешно ответила монахиня.
— Иди.
Пожилая привратница достала из глубокого кармана ключ, поглядела через щель в калитке, щелкнула замком и пропустила Надю за ворота.
Чуть в сторонке, неподалеку от ворот, стояла женщина в старой, почти черной от долгой носки овчинной шубе и клетчатом заплатанном платке. Она замерзла, стоя на ветру, и, чтоб согреться, слегка топталась на снежной тропинке. Одежда ее показалась Наде знакомой. Точь-в-точь бабушкина. Ну, конечно! Платок черный с заплатой, шуба с вылезшей опушкой на рукавах и у карманов. А валенки — ее собственные, Надины...
Лицо женщины было закрыто платком, лишь в узкую щель виднелись глаза.
— Здравствуйте! — сказала Надя, подходя.
— Здравствуйте, — ответила женщина.
Голос немного хрипловатый, похожий на мужской, но все же есть в нем что-то знакомое...
— Вы меня звали? — спросила Надя.
— Я! — И шепотом: — Не узнаешь?
— Нет.
— Вот здорово! Это же я, понимаешь? Семен!
Надя отпрянула.
Конечно, это он! Надя чуть было не бросилась обнимать Семена, но тут же спохватилась, сообразив, что за ней могут следить.
— Ты почему в бабьем наряде? — еле сдерживая смех, спросила она.
— А иначе нельзя. Несколько раз подходил к воротам, так эти ваши чертовки даже разговаривать не хотят. Только шипят — и все! Я и решил маскарад устроить. А ты что подумала?
— Подумала — тетя из Урмазыма.
— А выходит, вместо тети — дядя. Ты в монашки еще не записалась?
— Пока воздерживаюсь.
— Не обижают эти чернокрылые?
— Нет. Да и обижать меня не за что.
— Они могут найти. Это же, я тебе скажу, воронье! А у нас, понимаешь ты, среди ребят полное расстройство насчет тебя. Ушла, пропала — и концы в воду.
— Кто же это так расстраивается? — поинтересовалась Надя.
— Ну, кто? Все знакомые. И сам товарищ Кобзин о тебе беспокоится. Точно! А из пункта питания Васильева прибегала.
— Ну, ну?..
— Так она, понимаешь, прямо за голову взялась, когда узнала, что ты пропала.
— Как там у нее? — спросила Надя.
— Тревожится, вроде совсем прибитая... Жратвы нет, вот что главное. То, что было, подъели... Голодуха — прямо ужас. Рассказывает, вчера утром собрались детишки в очередь, ждут... А морозы какие? Пока начали выдавать, двое махоньких так и остались на снегу.
— Замерзли? — выдохнула Надя.
— Насмерть! Много ему, махонькому, надо? Он же как цыпленок, — Семен скрипнул зубами, — даже говорить невозможно.