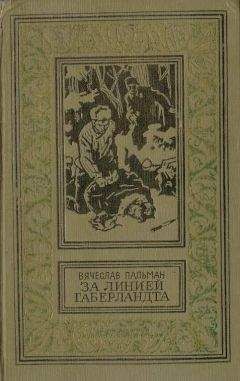Все это говорил он при болезненных моих стонах, исторгаемых от снятия цирюльниками сапога с раненой ноги. — Пуля прошла удивительно удачно сверху прямо в мякоть — и не пробив навылет сапога осталась в следу. Лекарь вынул ее — и объявил мне, что для лучшей безопасности нужно мне отрезать эту часть ступни— и что он сейчас сбегает за инструментами, коими действовал у кого-то другой его товарищ в это время. — Холодный пот пробежал по жилам моим. Мне ужасно было жаль расстаться, хоть и с небольшою частью ноги — но как рассуждать с самовластным доктором? Он ушел и что-то позамешкался. В это время проходил мимо меня другой и спросил: осматривали ли мои раны? Жалобным голосом остановил я его и умолял посмотреть мою ногу: нужно ли ее пилить. Он наклонился, засунул пальцы в рану (и я молчал!) — и объявил, что кость совсем не тронута и ни малейшей нет надобности отнимать. Радостно уцепился я за него не пустил до прибытия первого. Тут стали они говорить между собою по-немецки, — а как Бог открыл мне эту грамоту, то и я вступил с ними в разговор на этом диалекте и как можно сладкоречивее уговаривал: не трогать ноги. С неудовольствием согласился мой первый Эскулап, говоря что для моей же пользы хотел это сделать, — и спросил: где я еще ранен. — «Нигде уж больше! все! довольно! — отвечал я, умолчав о прочих царапинах, потому что боялся его охоты к операциям. Перевязав ногу, оставили они меня, — и я поохав с полчаса прилег к бревну и опять заснул.
Когда я проснулся, то уж смерклось. Многочисленные костры пылали по всей равнине, пальба умолкла, около нас суетились Гродненские гусары, которые по диспозиции войска должны были тут ночевать. Первое о чем спросил я: взят ли Полоцк? — и мне отвечали, что нет! — Это известие меня чрезвычайно огорчило. За что ж, подумал я, погибло столько людей, — и цель битвы не достигнута? — «Так неужели мы разбиты? спросил я опять.» — «О нет! отвечали мне гусары, — Французы загнаны в город и завтра верно мы пойдем на приступ. А то ведь целое лето стояли лагерем здесь и грозились побывать в Питере. Нет остойся! — после сегодняшней передряги скоро уплететесь домой.»
Поблагодарив гусар за это известие, я стал с большим вниманием всматриваться в их занятия. Они варили гречневую кашу и сбирались ужинать. Я вспомнил, что более двух суток уже, как был на самой строгой диете, — и голод расписывал моему воображение» Гусарскую кашу, как наивкуснейшее блюдо. — «Что это у вас там варится? спросил я самым дипломатическим тоном.» «Обыкновенно что, Ваше Благородие, — каша! не прикажете ли отведать, коли не побрезгуете.» — «Что за вздор братец, дай попробовать.» — Я дотащился до огня, у которого висел артельный котел, вооружился какою-то деревянною ложкою и подсел к каше.
"Да что это, братец, белое-то торчит у вас в котле? спросил я."
«Это, сударь, сальный огарок; так для смаку.»
Огарок расхолодил мое воображение, — и я призадумался: есть ли мне кашу, или нет? — Наконец голод победил всякое раздумье. Я хлебнул ложку, потом другую, потом третью, — и, наконец, не отстал покуда не был сытёшенек. — Поблагодарив Гусар, я подал одному из них двугривенный, — но он чрезвычайно этим обиделся и не взял.
Раны мои внушали всеобщее уважение; все обо мне хлопотали, как уложить меня потеплее (ночь была очень холодна) и помягче. — Наконец я улегся и проспал до утра самым крепким сном.
По утру приехали несколько повозок, — чтоб вести раненых в Юревичи (где мы на канун сражения ночевали), — и тут расспросил я обо всех своих сослуживцах. Из 16 Офицеров, осталось невредимыми только двое: Полковник и Адъютант его. Из 800 солдат дружины — стояло ввечеру во фронте 96 человек.
Кое-как дотащились мы к полудню до Юревич, — и все раненые нашей дружины поместились в одной лачужке. — Здесь уже прибыли наши обозы — и наша диета окончилась. — К вечеру услышали мы снова сильную пальбу, увидели зарево в городе — и до тех пор не ложились спать, покуда казак не привез нам известия, что Полоцк взят!
Отправление в Полоцк. — Обозрение поля битвы. — Приезд.
— Перестрелка. — Наша квартира. — Отданная кровать. — Первая перевязка. — Раны выбриты. — Перевод раненых к Иезуитам. — Прекрасный прием. — Знакомство. — Русский Иезуит. — Вечера у Плац-Маюра. — Известие об освобождении Москвы и о ретираде Наполеона. — Наши чувства при известии. — Порывы в Армию. — Раны закрылись. — Баня. — Раны раскрываются. — Отправление в Армию. — Поля: Чашник и Смольян. — Прибытие на кануне Березинского сражения. — Переправа Наполеона. — Наши суждения. — Бездейственность паша. — Небольшое участие. Вид издали на знаменитую переправу во время битвы. — Переправа кончилась. — Следующий день. — Обоз на целую версту. — Вид у переправы. — Разбор обоза. — Мы переходим за Березину. — Жестокие морозы. — Решительное расстройство Французской Армии. — Спасение Швейцарского капитана. — Отъезд Наполеона. — Взятие Вильны. — Отпуск в Вильну. — Наставление Виленского коменданта. — Квартира в Петербургском форштате. — Хозяйские дочери. — Робость и неопытность. — Вечерние прогулки. — Выстрелы. — Отправление с командою. Походная логика. — Происшествия на пути. — Двухнедельная дневка в Шлипово. — Прусак Форштмкистер. — Хозяйская дочь. — Назначение свидания. — Сон. — Пробуждение. — Выступление — Переход в Пруссию. — Прием жителей. — Происшествие близ Велау. — Решение Бургомистра. — Поход к Висле. — Обозрение Прейсиш-Эйлау. — Мариенбург. — Прикомандирование к ополчению. — Поход под Данциг.
С 7-го на 8-го Октября не спали мы целую почти ночь. Радостное известие о взятии Полоцка и великолепный вид отдаленного пожара, произведенного бессильною злостью отступающего неприятеля, — все это волновало сердца наши. Притом же и чувство зависти сильно беспокоило нас. Город взят, неприятель бежит, — и мы не участвовали в этом подвиге, мы без пользы смочили Полоцкие поля нашею кровью. Преобидно! — Под утро зарево пожара погасло на небе — и мы заснули. — На другое утро получено приказание перевезти всех раненых в город. Многие не согласились на этот переход по болезненности ран, — и остались в лачужке Юревичей. Я же с большею частью товарищей — страдальцев горел нетерпением явиться в новопокоренный, обетованный Полоцк. Вчетвером уселись мы в тележку — и скромненькая, обозная лошадка с довольно веселым духом потащила нас по большой дороге. Толстый булыжник, которым изредка было вымощено это Белорусское шоссе, производил над нами очень неприятное действие. Мы поминутно вскрикивали, охали — и все-таки продолжали с жаром рассуждать о военных и политических происшествиях. Вскоре открылось нам наивеликолепнейшее зрелище. — Все поле сражения 6-го Октября — лежало перед нами, еще свежее, неубранное, заваленное грудами тел, подбитыми лафетами, ящиками, пустыми батареями и умирающими лошадьми. Осенняя трава полей имела местами почерневший от крови цвет. Везде царствовало мрачное безмолвие, уныние и разрушение. — Там где за два дня перед тем гремели 400 орудий, где воздух раздираем был беспрерывными ура! где земля дрожала под топотом тысячей коней, — там грустная тишина набросила на все пространство, на все остатки грозной битвы — печальный покров смерти и ничтожества, — там медленный стук колес телеги и говор четырех изувеченных, — одни нарушали унылое молчание. Влево от большой дороги виден был полуразрушенный костел, который 6-го числа так сильно поражал нас своими орудиями; далее у горизонта виднелось озеро, которое прикрывало наш левый Фланг, — но напрасно я напрягал всю силу зрения — моих достопамятных кирпичных шанцев не было видно. Это показалось даже обидно для моего самолюбия. То место, где я так храбро подставлял свою голову под палаши латников, где пал, искрошенный по-видимому под их ударами — то место сравнялось с землею.