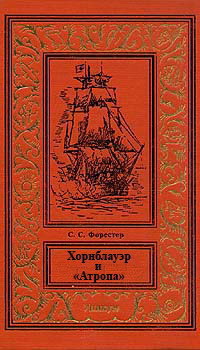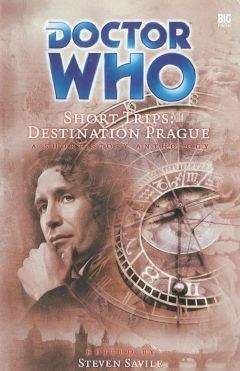так что теперь крепчает и поворачивает. Если так пойдет дальше, они окажутся заперты в порту, пока ветер вновь не станет западным. Потерянный час может обернуться днем ожидания. Небо и море были серыми, по морю бежали белые барашки. Неподалеку качался на якорях Ост-Индский караван – им надо, чтобы ветер стал еще чуть-чуть севернее, тогда они расправят паруса и двинутся по Ла-Маншу. Дальше к северу виднелись еще корабли – вероятно, «Несравненная» и эскадра, но без подзорной трубы было не разобрать. Ветер свистел в ушах, рвал с головы треуголку – приходилось крепко держать ее обеими руками. За мостовой начиналась пристань, возле которой покачивалось несколько люгеров.
Кучер и лакей сгружали с козел багаж, Браун ждал распоряжений.
– Договорись, чтобы меня доставили на корабль, – распорядился Хорнблауэр.
Он мог бы подать сигнал, чтобы с «Несравненной» прислали шлюпку, но не хотел терять драгоценное время. Барбара стояла рядом, придерживая руками шляпу, и ее юбка, словно флаг, трепалась на ветру. Сейчас глаза у нее были серые; будь небо и море голубыми, они бы тоже голубели. Она через силу улыбнулась.
– Раз ты отправляешься на люгере, дорогой, – сказала она, – я могу тебя проводить. Люгер доставит меня обратно.
– Ты замерзнешь и вымокнешь, – сказал Хорнблауэр. – В бейдевинд при таком ветре – прогулка не из приятных.
– Какая разница? – ответила Барбара, и мысль о разлуке вновь показалась Хорнблауэру нестерпимой.
Браун уже вернулся, и с ним двое матросов – головы повязаны платком, в ушах серьги, обветренные, просоленные лица словно вырезаны из цельного куска дерева. Они легко, как пушинки, подхватили тяжелые сундуки и понесли к пристани; за девятнадцать военных лет на ней перебывало бесчисленное множество офицерских сундуков. Браун шел следом, Хорнблауэр и Барбара замыкали шествие. Хорнблауэр крепко сжимал портфель с совершенно секретными приказами.
– Доброе утро, капитан, – отсалютовал ему шкипер. – Доброе утро, ваша милость. Отличный ветер. Вы с вашими бомбардирками как раз сможете обогнуть Гудвинд, а за Даунсом вам попутный ветер на Скагген.
Вот как в Англии охраняется военная тайна – прибрежный перевозчик знает, куда и с какими силами Хорнблауэр отправляется. Завтра как пить дать он встретится посреди Ла-Манша с французским шасс-маре, обменяет бренди на табак и новости на новости. Через три дня Бонапарт в Париже будет знать, что Хорнблауэр отбыл в Балтийское море с эскадрой.
– Полегче с ящиками! – завопил шкипер. – Бутылки-то, чай, не железные!
В люгер перегружали с пристани остатки багажа – дополнительные припасы, заботливо купленные Барбарой: ящик с вином, ящик с провизией и ящик с любовно выбранными книгами.
– Может, ваша милость посидит в каюте? – со своеобразной природной учтивостью предложил шкипер. – А то вымокнете, пока доберетесь до «Несравненной».
Барбара поймала взгляд мужа и вежливо отказалась. Хорнблауэр знал эти душные, вонючие каюты.
– Тогда дождевик для ейной милости.
Дождевик надели Барбаре на плечи, и он прикрыл ее до пят, как колпачок – свечу. Ветер упорно рвал шляпу с ее головы; Барбара одним движением сдернула убор и спрятала под дождевик. Свежий ветер тут же растрепал ее волосы; она со смехом тряхнула головой и распустила всю гриву по ветру. Щеки ее раскраснелись, глаза сверкали, как в тот памятный день на «Лидии», у мыса Горн. Хорнблауэру захотелось ее поцеловать.
– Отдать швартовы! Пошел фалы! – закричал шкипер, перебегая на корму и привычно прижимая боком румпель.
Матросы налегли на тали, грот пополз вверх, и люгер кормой вперед двинулся от причала.
– Пошевеливайся со шкотом, Джо-о-ордж!
Шкипер переложил румпель, люгер замер, развернулся и устремился вперед, послушно, словно конь под умелым седоком. Только отошли от пристани, загораживавшей ветер, люгер накренился, но шкипер положил руль к ветру, а «Джо-о-ордж» выбрал шкот, так что парус стал прямым, как доска. Теперь люгер несся в самый крутой бейдевинд – жутковато для всякого, кто не знаком с этими суденышками, – навстречу свистящему ветру. Из-под правой скулы взметались брызги. Даже здесь, в закрытых водах, волнение было сильное; люгер вздрагивал на каждой волне, пробегавшей от правой скулы к левой раковине, и переваливался сперва с боку на бок, потом с носа на корму.
Хорнблауэр вдруг понял, что ему давно пора бы почувствовать тошноту. До сих пор его укачивало в начале всякого плавания, и скачки маленького люгера уж точно должны были его доконать. Однако он не ощущал и намека на морскую болезнь. С крайним изумлением Хорнблауэр видел, как горизонт встает над носом суденышка и ухает вниз, – а желудку хоть бы хны. Он меньше удивлялся, что уверенно стоит на палубе: все-таки после двадцати лет в море привычка держать равновесие так легко не пропадает. Он утрачивал ее, когда голова кружилась от морской болезни, а эта напасть, похоже, обошла его стороной. Обычно он выходил в море, измотанный сборами и поисками матросов, ошалевший от волнений и недостатка сна, усталый до дурноты еще на берегу. Как коммодор, он избавлен от всех этих тревог: Адмиралтейство, Министерство иностранных дел и казначейство завалили его приказами и советами, однако приказы и ответственность – пустяк в сравнении с мелочными хлопотами капитана: набором команды и умасливанием портового начальства. Он чувствовал себя вполне беспечно.
Барбара крепко сжимала поручень; она подняла на мужа лицо, и он понял, что ей немного не по себе – она мучается сомнениями, если не хуже. Хорнблауэру стало забавно, он даже загордился: приятно выйти в море и знать, что тебя не укачивает, еще приятнее в чем-то превзойти безупречную Барбару. Он готов был уже поддразнить ее, щегольнуть собственной неуязвимостью, когда разум и любовь к жене спасли его от такого недостойного поступка. Она бы обиделась; он явственно помнил, как в приступе морской болезни злился на весь свет. Хорнблауэр поспешил ей на выручку.
– Ты счастливица, дорогая, морская болезнь тебя не берет, – сказал он. – Качает сильно, впрочем, у тебя всегда был крепкий желудок.