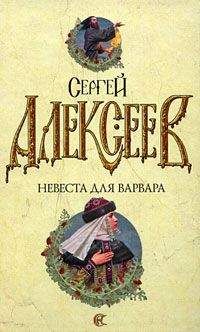— Твоя лошадь там, у столба?
— Это не лошадь, сэр. Это мой боевой товарищ. Его зовут Зигфрид.
— Продай!
— Разве друзей продают, сэр? Amicus verus rara avis est — верный друг — это редкая птица! Так, по-моему, говорили древние. А этот конь и друг и быстрая птица. Если б не он, сидел бы я перед вами…
— Ты прав, солдат. В каких армиях служил?
— Я начал у шведов, рядовым в дворянском полку. Затем стал прапорщиком в лейб-гвардии драгунском. У Карла XI. Так я дослужился сперва до лейтенанта, а потом и капитана. В те времена мы дрались с курфюрстом Бранденбургским и датчанами. Славно мы им дали при Лунде. Но откровенно признаюсь, что в армии Карла было многое такое, что не так-то легко переварить благородному воину. Жалование капитана составляло каких-то 60 талеров, однако выплачивали не более трети. Мне случалось быть свидетелем, как целые полки каких-то немцев или голштинцев поднимали бунт перед боем, и точно конюхи орали «Гельд! Гельд! Что означало «Давай денег!», вместо того, чтобы пойти в бой. — болтая, капитан не преминул употребить хлеб и сыр, что стояли на столе, не забывая запивать еду вином. Присутствие русского царя с генералом его не смущало. Петр наблюдал с улыбкой за старым солдатом. Дуглас ему явно нравился.
— Ну а потом?
— А потом, — капитан сделал хороший глоток вина и снова потянулся за хлебом и сыром, — потом после мира Сен-Жерменского, был у нас полку один ирландец, майор О Хара, и как-то вечером мы с ним поспорили. Уже не помню из-за чего. Кажется, из-за лошадей. Слишком много рейнского шумело в головах. Ну поспорили, и что с того. Наутро он вздумал отдавать мне приказания. При том держал свой жезл на отлете и концом вверх, вместо того, чтоб опустить его концом вниз, как подобает воспитанному командиру, когда он говорит с подчиненным. По сему случаю, мы дрались на дуэли. И он имел неосторожность умереть после того, как я воткнул в него свою шпагу. А наш полковник (тоже ирландец, кстати!) изволил подвергнуть меня наказанию. Обиженный столь вопиющей несправедливостью я перешел к голландцам. Тем более, что три шведских полка у них было на службе.
— Ну и голландцы? — Петру все больше нравился Мак-Конин.
— У них все хорошо. Их поведение в день платежа должно служить примером для всей Европы! Ни проволочек, ни обманов. Все рассчитано, как в банке. Но уж зато, голландцы народ аккуратный. Ничем не дадут поживиться. Если какой-нибудь простолюдин пожалуется на разбитый горшок или череп, а глупая девчонка запищит чуть погромче, честного воина притянут к ответу. Да не перед военным судом, который мог должным образом разобраться в его проступке и наложить какое-нибудь взыскание, а перед бургомистром из лавочников или ремесленников, а тот начнет угрожать виселицей или тюрьмой, будто перед ним стоит кто-то из его презренных толстопузых мужланов. А тут как раз война началась. Людовик, король французский, сцепился с ними. За Пфальц какой-то драться решили. Ну сперва мы французам наподдавали славно при Валькуре, зато потом они нам при Флерю. Когда их армию возглавил герцог Люксембургский. Вот уж славный воин! Жаль помер. Почти все наши шведы тогда в плен попали. А я ушел. И к испанцам подался.
— Ну и испанцы?
— В испанской армии особо сетовать не приходилось. Deo gratias![1] Жалование выдавали аккуратно, благо деньги поставлялись теми же фламандцами. Постой был отличный, пшеничные булки разве сравнишь с ржаным шведским хлебом, а рейнское вино мы видели в таком изобилии, в каком, бывало я не видел пиво в лагере Карла.
— В чем же дело? — Петр уже смеялся, слушая забавного рассказчика.
— А дело в том, что моя совесть не была спокойна в отношении религии. — деловито пояснил капитан и оторвался, наконец, от еды. Даже ремень ослабил.
— Вот уж не думал, что старый воин может быть так щепетилен в подобных вопросах. — удивился царь.
— А я и не щепетилен! Ибо полагаю, что это обязанность полкового священника решать за меня эти вопросы. Тем более что и делать то ему особо нечего, а жалование он как-никак получает. Но на мою беду все вокруг были сплошные католики, которые косились на одинокого протестанта, как на истинного еретика.
— Неужели все так серьезно?
— Конечно, ведь я отказался от обязательной обедни, на которую ходят все благочестивые католики. А я как истинный протестант, считаю обедню худшим примером папизма, слепого идолопоклонничества и не желал этому потворствовать своим присутствием.
— С каких пор, Дуглас, ты стал протестантом? — удивился Гордон, всегда придерживавшийся католической веры.
— А когда вы, сэр, покинули нашу добрую Шотландию, у нас опять все передрались за веру, парламент и королей. Вот, отец и пристроил меня в лоно протестантской церкви. Словно предчувствовал, что парламент вышвырнет вон из старой Англии этих Стюартов. И даже в училище духовное определил, где я постиг латынь и законы логики, позволяющие мне так ясно излагать свои мысли. Правда, долго я там не задержался.
— Ну и чем закончились теологические разногласия с испанцами? — Царю нетерпелось услышать всю историю до конца. Капитан кивнул важно:
— Мне повезло. Я нашел одного протестантского священника.
— Надеюсь, он разъяснил тебе?
— Как нельзя точнее, сэр! Принимая во внимание, что мы выпили добрую полдюжину рейнского и опорожнили около двух кувшинов киршвассера. Отец Мартин объявил мне, что для такого заядлого еретика, как я, уже все едино — ходить или не ходить к обедне, ибо я и так обречен на вечную погибель, как нераскаявшийся грешник, упорствующий в своей преступной ереси. Несколько смущенный таким ответом, наутро я поковырялся в известных мне статьях военного устава и не нашел ни одного указания на то, что я обязан ходить к обедне. Кроме того, мне не было положено никакого вознаграждения, за ущерб который бы я нанес своей душе. Тут, как на грех и война кончилась. Испанцы поспешили от меня избавиться. Далась им эта обедня! — последние слова капитана потонули в общем хохоте.
Закончив смеяться и вытерев слезы, царь хлопнул шотландца по плечу:
— Годишься! Как тебя звать-то? Мак… Мак?
— МакКорин, сэр. Дуглас МакКорин.
— На службу возьму! Мне нужны такие вояки. Полки создавать будем новые. Драгунские. Скоро война знаю будет большая.
— А сколь жалования положите, сэр? — капитан был явно не промах.
— Полтину в день!
— А что есть полтина? — капитан прищурился хитро. Главное не прогадать!
— Половина ефимка — рубля серебряного.
— Это где-то талер с четвертью. — подсказал Гордон, пояснив, — тоже серебряный.
— К черту все половинки и четвертушки. Будь моя воля, я бы не позволил делить любые деньги пополам, также, как женщина на суде у Соломона не позволила разрубить пополам своего ребенка! — Все опять рассмеялись.