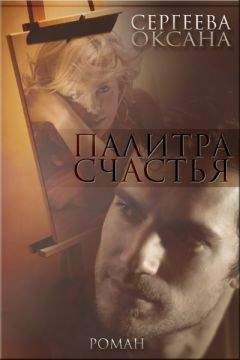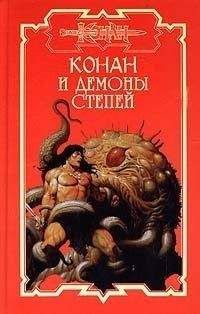– В последнее время почти каждый день… отряды небольшие, правда, – ответил Бурчимуха.
– Через Десну переправлялись?
– А мы-то на что! Пока ни один печенег не ступил с низины на правобережье я не ступит!
Злобно передернулось лицо меченого.
В эту минуту чей-то громоподобный голос заставил всех вздрогнуть:
– Эге-ей! Что за люди? Кто такие? Откуда пожаловали?
От этого голоса над затененной рекой поднялась пара диких уток и понеслась прочь, цепляя прибрежные камыши. Доброгаст очнулся от дремы.
Над частоколом маячил огромного роста всадник, закованный в тяжелую броню. Вороной распаренный конь под ним крутил мощною шеей, шуршала его тяжелая грива.
– Вот он, Улеб, – обрадовался Тороп, – детище наше нескладное!
– Кто такие, спрашиваю? – несся здоровенный голос.
Из шалаша вышел молодой витязь:
– Не шуми там!
– А с чего бы мне не шуметь? – откликнулся Улеб. Конь его тянулся схватить зеленые побеги проросшего частокола.
– Перед тобою – кмет!
– А мне чихать на твое кметство! Мы здесь сами по себе – вольные медведи! Замри ты, неуемный! Тпрру! Накось, кмет, получай.
Улеб размахнулся и бросил к ногам витязя мертвую печенежскую голову.
Вздрогнул безбородый витязь, нагнулся, поднял ее за волосы, вгляделся в искаженные смертью черты.
– Двое ушли, кмет, – сказал Улеб и перемахнул с конем частокол. – Что-то важное степь замышляет, как волки у пастбища, рыщут по окраинам печенеги. Откуда взялись, леший их ведает.
Витязь отшвырнул мертвую голову, поправил обруч на лбу. Глаза его стали пустыми, холодными.
– Шапки у степняков косматые… теплые… – говорил великан, не замечая того, что все смотрят на него, даже ложки побросали. – Слушай, Бурчимуха, что-то, неладное деется. Надо бы дать знать в Ольжичи.
Меченые внимательно рассматривали Улеба, его статную фигуру, бритое лицо с мясистым носом, с редкими, почти детскими бровями и рыжеватыми усами, растущими во все стороны.
– Кто ты? – спросил его витязь.
Улеб, не замечая необычности в поведении окружающих, спокойно ответил:
– Я – старший на засеке… третий год здесь… Много товарищей перебыло – все улеглись по степи, до сих пор косточки желтеют в репейниках, а я все живой… Теперь новые товарищи у меня.
– А это кто? – кивнул витязь в сторону Доброгаста.
Тот невольно вздрогнул, на мгновение встретился взглядом с витязем.
– Пристал к нам холоп, добрый гость… – начал было Тороп и осекся под взглядом Буслая. – Да он вовсе не беглый…
– Кусь, кусь, кусь, – позвал Улеб выбежавшего из шалаша волчонка. Потрепал его за ухо, расцеловал, подтолкнул ногой мертвую голову:
– Ну-ка, щен, проказник этакий, поиграй черепком…
Храбр не договорил, повалился на траву и отошел ко сну.
Тлеющие поленья еще долго отсвечивали в глазах витязя. Он молча сидел, подперев рукою голову. Потом костер погас, пустив сизые струйки дыма, и в небе яснее проступили крупные, словно бы влажные, звезды.
Наступила теплая, упоенная цветочным духом, совсем летняя ночь. Луна, как червленый щит, повисла над Русской землей, будто хотела отгородить ее от темной печенежской степи.
Доброгаст проснулся перед самым восходом, но лежал, не двигаясь, истома растекалась по всему телу. Смутная надежда зародилась в груди, отчего, он и сам не знал. То ли оттого, что сон какой видел, то ли оттого, что глаза его с радостью останавливались на каждом предмете, подмечали каждый пустяк: стройные колонки полынка, щупальца репейника из мягкой, будто пуховой, травы, возвышающиеся надо всем острые бутоны одуванчиков – далекие киевские терема…
Всадники совсем уже были готовы к походу, когда Бурчимуха, взяв под уздцы буланого жеребца, поклонился кмету:
– Благодарствую, витязь.
Тот даже головой не кивнул, взор его уперся в дальние холмы, где Десна встречалась со своим братом, могучим Словутичем.
– Прими этого щенка, – протянул Бурчимуха своему спасителю волчонка.
Волчонок озлобленно вырывался, пытаясь укусить. Меченые посадили его в пустой колчан, он и там тявкал и царапался.
Хмурый Буслай, с набрякшими за ночь глазами и безжизненно повисшими усами, зашел с другой стороны, стал на одно колено, склонил голову перед всадниками.
Витязь поднял руку, вздыбился его буланый конь, захрапел. Распахнулось на груди безбородого белое корзно, взвилось за спиной, и блеснул на кафтане золотой кметский знак – дубовый лист. Отдохнувшие кони охотно пустились в путь.
– Да проснись же ты, дохлая свинья, колода дубовая! – колотил Тороп по спине Улеба. – Яромир, очнись! У нас был Златолист! Каково?
Доброгаст поднялся и пристально смотрел вслед удаляющемуся отряду.
Будьте навеки прокляты, духи, обитающие в степи, в каждом пыльном кусте, в каждом древнем кургане, на каждой бесконечно длинной дороге…
Доброгаст изнемогал от усталости. Много дней уже он брел по степи, стараясь не приближаться к селениям, оставляя в стороне безлюдные дороги, по которым, посвечивая красными нагрудными петлицами, рыскали княжеские мечники. Он почти ничего не ел. Только яйца дрофы, найденные в зарослях дикой вишни, немного подкрепили его. Яйца были большие, темные с желтоватыми пятнами, очень вкусные и после них захотелось пить. Будто раскаленные угли жгли горло, но воды поблизости не было. Казалось, все – и гулкое небо, и земля, населенная звенящим, стрекочущим миром, – замерло в ожидании благодатного освежающего ливня. Только дорога пылила сухим прахом.
Доброгаст рвал траву, ту, которая пониже, попрохладней, жевал ее, чтобы обмануть себя, но это мало помогало. Он сплевывал зеленую слюну, рвал другую траву и упрямо продолжал шагать по бугристому бездорожью.
Впереди был стольный град, славный, вольный город Киев. Исхудавший, опаленный солнцем, одуревший от пронзительного свиста жаворонков, Доброгаст шагал и шагал; тень его то укорачивалась и толкалась под ногами, то протягивалась по степи к дальним холмам. Когда последний солнечный луч догорал в небе, оставляя легкий серебристый пепел облаков, Доброгаст в изнеможении опускался на землю там, где придется, и засыпал, видя тяжелые сны, похожие на небывальщины: выходил таракан из угла, удивлялся тому, что в лодке гребцы гребут не веслами, а ложками; луна становилась круглой хлебиной и ее терзали голодные волки… Никто из близких не являлся во сне: ни Любава, ни Шуба.
Однажды Доброгаст проснулся от топота множества ног. Вскочил, протирая глаза. Совсем рядом бежало кем-то перепуганное стадо туров. Рогатые головы, крутые бока, задранные хвосты – все это черными тенями промелькнуло и исчезло во мраке. Стало тихо; звучными вздохами перекликалась степь. Доброгаст прилег, слушая, как рождаются отовсюду таинственные звуки: то шелест, то легкий треск, будто упругие стебли прорывают корку земли.