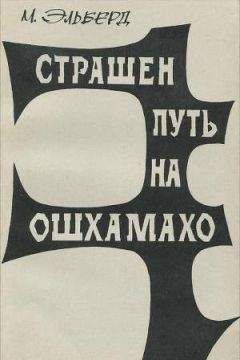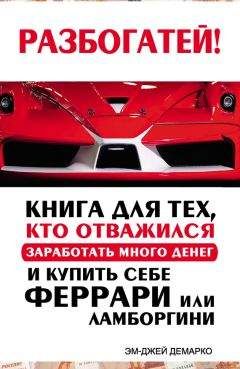Щуплый и низкорослый молодой человек ответил с добродушной ухмылкой:
— Нет, мой малыш, для меня — звук песни, как запах жаркого! Пошли туда.
Видишь, девушки тоже…
— Нет уж, дружище Тутук, сначала я дождусь говядины из этого котелочка, а потом и танцевать пойду. Уж недолго осталось терпеть, вон пену снимать начали!
С дальнего конца выгона примчалась, разбрызгивая мелкие лужицы, стайка босоногой детворы:
— Уже здесь!
— Рысью скачут!
— Все у них, как солнце, блестит!
Зрелище и впрямь оказалось таким, что запоминается надолго. Видно, всадники, остановившись где-то неподалеку на берегу речки, вычистили одежду, помыли коней, тщательно протерли ножны шашек и кинжалов, наборное серебро уздечек. Теперь они не спеша ехали по выгону — пусть и простой люд успеет рассмотреть аталыка с его каном.
Восторженный ропот волнами прокатывался по толпе. Некоторые порой не выдерживали и высказывали свои замечания громкими голосами:
— Смотрите, до чего красив!
— А сам аталык? Давно ли из возраста кана вышел!
— Оба друг друга стоят!
— А младший Хатажуков?! Вот князь настоящий! Порода!
— Сын кошки не травкой кормится, сын кошки за мышкой охотится!
— И запасного коня с собой ведет…
— Тоже хорош, буланый, ах, как хорош! Наверное, сосруковский Тхожей был таким!
— У Тузарова хоара не хуже. Я знаю — Налькут зовут его.
— А этот юный князек из тех петушков, у кого рано гребешки вырастают!
— И шпоры…
— Отец его, говорят, в юности таким же был.
— От колючки колючка и рождается!
— Эй, кто там злобствует? Не стыдно?
— Смотрите, с ними Казаноков Джабаги!
— Уо! Точно! В черной черкеске!
— Джабаги-и-и!
— Казанокову счастья и удачи!
— Это наш человек!
— Бэрчет ему!
— Он друг Тузарова!
— Тузарову тоже изобилия!
— Молодец, Тузаров!
Когда всадники спешились и — первым Казаноков, за ним Канболет, а третьим Кубати — скрылись в дверном проеме хачеша, толпа сразу успокоилась и теперь уже терпеливо ожидала угощения. И долго терпеть не пришлось.
Хатажуковские унауты начали вылавливать из котлов и вываливать на круглые столики, а то и просто на широкие, поставленные на козлы доски увесистые куски дымящейся говядины и баранины, отдельно клали жареное мясо, посыпанное солью в смеси с тминной мукой, сваренных в сметане кур и копченых уток, ставили большие глиняные горшки с зайчатиной или олениной, томленной в соусе из сушеных слив, пахучих трав и перца, несли из-под кухонных навесов просяные и ячменные кыржыны, из темного погреба поднимали пузатые коашины с махсымой, расставляли в деревянных чашах заготовленную впрок тыквенную мякоть, варенную в меду…
Никогда еще не видели здешние простолюдины такого щедрого угощения.
Они, правда, не выкрикивали громких похвал князю, не умилялись и не унижались. Все держали себя степенно, не было никакой толкотни, каждый спешил передать соседу любой кусок, на который тот бросил более или менее ласковый взор.
И только дети и собаки, шныряющие повсюду, вносили некоторую сумятицу в обстановку праздника. Однако лакомых кусков хватало всем — и взрослым, и детям, и даже собакам.
Из растворенных дверей княжеского дома вырвались, звуки музыки. Вот задорная трескотня пхацича, вот душевно-тоскливая песнь срины[154] и накыры[155] — большого искусства требует игра на этих дудочках. Затем вступает в игру шичапшина — тоненько плачет смычок, скользя по струнам из конского волоса. А вот подала свой низкий волнующий голос пшинадыкуакуа[156], похожая на лук с несколькими тетивами, — чем ближе тетива к центру дуги, тем она короче и звончее.
Люди во дворе и почетные старики из простонародья, усаженные на длинной скамье под навесом, — все встрепенулись, приободрились, стали меньше есть и больше налегать на махсыму.
— Ну, теперь уоркский зао-орэд пойдет! — уверенно сказал все тот же всезнающий старичок.
Он оказался прав. Чей-то голос в хачеше затянул:
Слушайте песню — зао-орэд [157]
О пши молодом Каракане.
Песню сложил на старости лет
Гордый отец пелуана.
Сам Захаджоко, героя отец,
Зао-орэд запевает.
В доме большом, где живет наш храбрец,
Ханы гостями бывают.
Красные ткани в подарок везут —
Даже нарты таких не имели,
И чудо-часы Каракану дают —
Нарты б от зависти онемели!
(Старичок горестно покачал головой:
— А еще говорят, будто есть предел бесстыдству!)
Уорки с почтением ждут его слов,
Неустрашимого князя-аслана,
Шумной стаей голодных орлов
Уорки летят к его стану.
(— Вот уж верно! — сказал старичок. — Стервятники — они и есть стервятники!)
А речь Каракана лишь об одном:
Лишь о новых лихих набегах.
Хоара — конь всегда под седлом,
А хозяин — всегда в доспехах.
Сталь его шлема — бора маиса —
Шишак ярче солнца сверкает,
Лука дугу из прочного тиса Ему
Тлепш, бог-кузнец, выгибает.
(— Как будто Тлепшу больше делать нечего, как только помогать грабителю!)
Крепкорукий, он саблей блестящей
Метит дамыгу[158] на лицах поганых.
Ой, не уйти от мощи разящей
Грозного пши Кабарды — Каракана.
С ладонь наконечники стрел героя,
Орлиными перьями окрылены —
Много врагам принесли они горя,
Стрелы, что смертью начинены!
В безлунные ночи лесами он бродит,
В дерзких набегах стада отбивает,
По бездорожью свой путь находит,
Овец и коней на Кум пригоняет.
Ой! Высока и звучна его слава!
И там, где он не был, о нем все слыхали.
Лев одинокий, наш молодец — шао!
Такого, как он, вы еще не видали!
«Отцова привычка!» — крикнул герой,
Убивая пши Болатоко.
Ой! Каракан с белой душой,
Отважный сын Захаджоко!
(— С «белой душой»… Да ночь безлунная и то светлее!)