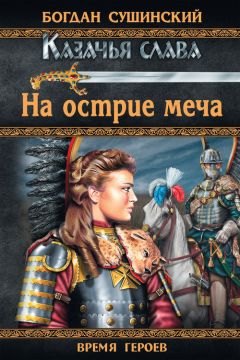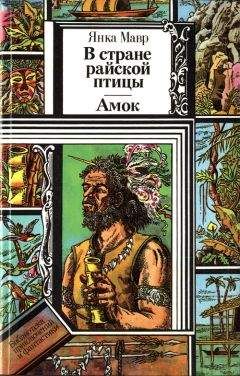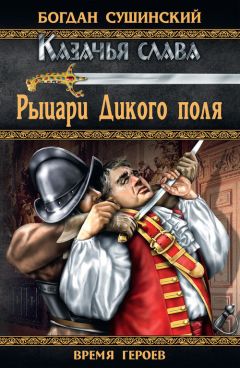Ознакомительная версия.
— Хозар, — проговорил он, когда кто-то из воинов подсказал ему, что умываться лучше метрах в пятидесяти от берега, у небольшого родничка. — Немедленно прикажи воинам очистить реку от трупов. Реки, как и святилища, всегда должны оставаться чистыми.
— О-дар!
Рядом с родником образовалось небольшое озерцо, которое еще только пыталось пробиться через толщу холма и тоненьким ручейком соединиться с рекой. Несколько воинов, набредших на него раньше Гяура, отошли, давая ему возможность насладиться купанием. Но едва Гяур оголился по пояс, как прискакал вездесущий и неугомонный Улич.
— Князь, к тебе просится святой отец!
— Какой еще отец? — недовольно проворчал Гяур.
Вода в озерце оставалась на удивление холодной. Очевидно, под ним тоже скрывается небольшой родничок. Ощущая его холодную чистоту, Гяур испытывал истинное, непостижимое блаженство.
— Да вон он, бредет, весь израненный. Святой, но при сабле. Говорит, что знает тебя.
— Знает? Странно.
Олаф зачерпнул походным бурдючком воды, вылил ее на спину князя и устало взглянул на Улича.
— Убери ты своего святого, дай князю отмыться от грехов.
— Не могу. Он — из местной церкви, — развел руками Улич. — А церковь сожгли. Проси полковника выслушать его.
— Хорошо хоть не из собора Святого Петра [40], — ухмыльнулся Олаф.
Гяур вытер лицо и уставился на подошедшего попа. Панцирник его оказался одетым прямо на рясу, полы которой были изодраны и обожжены до самых колен. Огромный серебряный крест, безмятежно покоящийся на боевой стали, успел принять на себя по крайней мере два сабельных удара, что дало повод князю заподозрить, что на самом деле он не из серебра, а тоже из бренной посеребренной стали.
— А, это вы, преподобный… или как у вас здесь принято обращаться к святым отцам? — узнал Гяур в пришельце того самого священника, которого когда-то видел распятым между конем и церковной колокольней.
— Я, сын мой. Все тот же скиталец поднебесный отец Григорий. Как это ты не забыл меня, князь?
— Отче наш, великий и праведный! Воизмени гнев Свой яростный на милость христианскую: спаси землю Свою святокровную Украйну и народ ее грешномученический!.. — густым, почти архиерейским басом пропел Одар-Гяур. — Разве такое забудешь?
— Ты смотри! — опешил отец Григорий. — Молитву запомнил! Слышали?! — обратился он к воинам. — Это мою молитву князь читает. И сам жив, и молитву творит! Истинно православная душа, истин-но!
— Язычник я, отче.
— Вот что значит — христианская… — намеревался восторженно продолжить отец Григорий, но, услышав это Гяурово «язычник», запнулся на полуслове. — Что ты сказал, княже?
— Язычник, говорю. Племя мое не приняло выдуманных древними иудеями святых и праведных, не приняло их мученика — Христа, осталось верным богам, которым поклонялись наши с вами предки: Перуну, Сварожичу, Роду…
— Чего ж так, юный княже? — сразу погрустнел отец Григорий. — Князь, из киевских князей именитых — и в язычниках. Вон церковь, а вот крест. При всем войске.
— Я ведь поведал тебе, что мы из племени уличей. И земля наша — в устье Дуная. Князь Владимир Киев крестил, а Дунай… он так и остался некрещеным.
— Но разве не христиане жили вокруг вас: греки, болгары, валахи, угры?
— И все приняли чужих богов, чужую веру. Чужих! Но как бы я смотрел себе в душу, святой отец, если бы отрекся от богов и веры предков, приняв веру чужую? Разве не есть это самым страшным грехом? Уже не только перед богами, но и перед святыми духами рода, племени?
Отец Григорий мрачно уставился на князя. Снял с головы исковерканный, очевидно подобранный на поле брани, шлем и усердно, чувствительно поскреб темя, словно рассчитывал, что после этого Господь скорее озарит его философским просветлением.
Гяур понял, что своим ответом застал его врасплох. И дело даже не в том, что, идя сюда, отец Григорий не готов был к этому разговору. Он вообще не готов к нему. Как всякий верующе-мыслящий человек, он, конечно же, задумывался над тем, почему в мире появилось столько вер и богов. Наверняка ему приходилось вступать в полемику с католиками, протестантами и мусульманами… Но вряд ли когда-нибудь душу его вспахивал вопрос, которым он обязан был задаться сейчас: «А действительно, разве не грешно это: отрекаться от своих, славянских богов, чтобы века и века поклоняться богам иудейским, апостолам и великомученикам чужеземным? Какими бы они там ни были».
— Так ведь язычники же… — растерянно проговорил отец Григорий. — Они от церкви давно отлучены и прокляты.
— Кто отлучен и проклят? Десятки поколений предков наших отлучены и прокляты? — без полемического азарта, задумчиво спросил князь, неспешно одеваясь. И пока укрывал свою наготу, отец Григорий не мог оторвать взгляда от его могучей, выпяченной груди, плотного мускулистого тела.
Он не стеснялся завидовать этому молодому богатырю. Хотя думать должен был о другом, о духовном.
— Разве такое возможно, отче? Как можно миллионы людей, целые поколения предков своих, всю Киевскую Русь, до князя Владимира сущую, как их всех можно разом взять и отлучить от церкви, о которой они и знать-то не знали, да еще и проклясть, яко язычников? Как можно отлучать и проклинать нас, тех, кто и сейчас желает поклоняться богам своих древних родов и племен? У кого такая сила, у кого власть и каким Господом она дана? Нет, отче, не по-божески это. Не по-язычески и не по-христиански. Это я вам говорю, князь Одар-Гяур.
— Это кто там тщится Киевскую Русь отлучить и проклясть? — угрюмо повторил Хозар. И прозвучало это угрожающе.
* * *
Отец Григорий несколько мгновений изумленно сверлил взглядом панцирник князя. Исподлобья оглядел стоящих за ними воинов, словно побаивался, что «отреченные и проклятые» бросятся на него и изрубят, поддавшись какому-то внутреннему предчувствию; на всякий случай он даже отступил на два шага и тяжело, обреченно вздохнул.
— Ну да это я так, отче… — поспешил развеять его предчувствия Гяур. — Я ведь понимаю, что вы пришли ко мне не для философских дискуссий.
— Да, не для дискуссий, — как бы про себя согласился с чем-то отец Григорий. — Да-да, я помню наш разговор тогда, у храма, который татары-кайсаки только чудом не сожгли дотла.
— О посохе, который сильнее меча? — грустно улыбнулся Гяур. — Но ведь вы сумели убедить меня, что для нашего измученного народа посох Моисеев значительно важнее меча. «Посох, дающий молитву, сильнее меча, дающего свободу» — вот мысль, которая была заложена вами в собственные уста и в правдивость которой я никогда больше не поверю. Теперь уже — никогда. Но тогда вы почти убедили меня.
Ознакомительная версия.