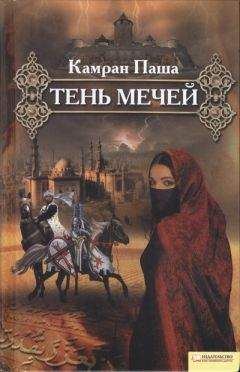Аббат не знал, что своим демонстративным сидением в камере он спас себе жизнь: трое посланцев Вадара, приготовив яд, незаметно, но с неумолимым упорством искали встречи с ним. Но никто не мог придумать предлога – как войти в негласно охраняемую тюрьму. Ведь, если бы даже им удалось проникнуть к аббату и умертвить его – на них тотчас пало бы подозрение. Да и Люпус, сдерживая злобу и ненависть, не подталкивал события в желаемом направлении: шум случился значительный, и внезапную смерть аббата в такой ситуации Ватикан не оставил бы без пристального рассмотрения. Он понимал, что без послания Рима ничего предпринять невозможно. Если слухи о крайнем благорасположении Папы к этому выскочке-богослову верны, то его, скорее всего, вызовут в Ватикан, и уже там станут разбирать причины и последствия его бунта. Если аббат умрёт здесь, в Массаре – это одно. Но вот ежели по дороге в Рим – о, это совсем, совсем другое. Набраться терпения – и ждать.
Ждал с угрюмым нетерпением Сальвадоре Вадар, который остановился в одном из аббатств неподалёку от Массара – ему нужно было, чтобы смерть заместителя инквизиторского трибунала произошла не при нём, – ждал горячо желаемой весточки о несчастье, доводя своим страшным присутствием обитателей аббатства до обмороков.
Ждали терпеливо и Солейль и Йорге – и дождались. Иероним на несколько дней отбыл в провинцию.
На столике в камере Йорге было довольно бумаги, были и чернила и перья: ведь он сидел здесь для того, чтобы вспомнить сообщников и составить списки из имён. И, едва лишь Люпус покинул Массар, Вениамин пролез сквозь дыру в стене к Йорге и, стараясь подражать почерку Иеронима, написал распоряжение для внутренней службы трибунала. Пригодилась-таки утаённая при аресте печать! Выправив по всей форме бумагу, он незаметно подложил её в ящик для ежедневных распоряжений. Утром дежуривший на исполнении наказаний Гуфий, развернув её, прочёл и, без тени удивления, не сомневаясь в подлинности приказа, вызвал к себе сонного палача.
– Найди хранителя ключей, – сказал он палачу, – выволоки из камеры башмачника Йорге, отмерь ему десять ударов плетью, отдай вот эту паломническую подорожную и выведи за ворота.
Это было утром. А за ночь перед этим, вечером, при скупом свете принесённой аббатом свечи, двое узников совершили последние приготовления. Йорге сбрили бороду и обстригли волосы, а Вениамин наоборот – набрал копоти и известковой крошки и густо натёр этой смесью свою отросшую бороду, и так же умастил волосы на голове. Потом они поменялись одеждой. Вениамин отдал башмачнику чёрный шёлковый балахон, а сам натянул его сырое, издающее пронзительный запах давно не мытого тела тряпьё. И, разумеется, занял его место.
Ночью они не спали. На протяжении нескольких часов аббат учил башмачника произносить несколько очень важных фраз. Они ждали.
Но палач, сознавая ничтожность полученного указания, выполнять его не спешил. Лишь выспавшись (ах, эти ночные допросы – они так утомительны), он, гремя ключами, спустился в подвал и открыл дверь в камеру Йорге.
– Пошли, башмачник, – сказал он. – Тебя отпускают на покаяние.
Вениамин, не поднимая густо намазанного копотью заросшего грязной щетиной лица, ковыляя, вышел за ним. Пройдя из подвала-тюрьмы в подвал для допросов, он по знаку палача сбросил куртку башмачника и подставил худую, серую от сажи спину под длинную плеть.
Он думал, что человеку вполне по силам выдержать десяток ударов плетью – в этом подвале отвешивали еретикам и по сто ударов. Однако, после четвёртого, разрывающего болью мозг, укуса витого кожаного хлыста он потерял сознание. После экзекуции его облили водой. Помогли натянуть на окровавленное тело грязную куртку. Палач сунул в руку ему подорожную грамоту и вывел за ворота.
– Топай, – сказал он, – счастливчик.
Нетвёрдой походкой неопрятный, согнувшийся человек, двинулся в сторону городских ворот. Но в одном из переулков свернул и вышел к пристани. Достав припрятанную монетку, он взял во временное пользование лодку и пересёк реку. Уже загорался вечер, когда он, выйдя на противоположный берег, разделся и выкупался. Затем, достав бритву, старательно, начисто выбрился. Потом приплёлся на знакомую лесную поляну и выволок на свет короб.
Он вынул из глубоких плетёных недр короба люпусов инквизиторский балахон, отсыпал весомую горсть монет, достал жезл и одну – какую-то очень важную – из бумаг. Приготовив всё это, аббат лёг у подножия старого дуба, между двух его бугрившихся корневищ. Лёг, оберегая израненную спину, на бок, и попытался уснуть. Но сон не шёл. Тогда он сел, опершись плечом о твёрдый шершавый ствол и, подняв лицо к первой, ещё бледной звезде, стал просто ждать.
Это случилось уже глубокой ночью. Он спал, – или ему казалось, что он спал. Вдруг пронеслось возле него невидимое, но явное – как дыхание – ощущение присутствия рядом кого-то ещё.
Вениамин раскрыл глаза. На полянке, возле смутно темнеющего короба, стояла огромного роста человеческая фигура. Это был, без сомнения, рыцарь. Остроконечный шлем, длинный плащ, оголовок ножен меча возле подошвы исполинского сапога. Ростом был рыцарь почти вровень с дубом, и прозрачно блистал серебристо-белеющим светом. Нет, не кинулся страх в утомлённое от скорбей сердце аббата – ни каплей, ни тенью, поскольку веяло от чудесного гостя неколебимым спокойствием и чарующей добротой.
– Здравствуй, Вениамин, – сказал, не разжимая губ, рыцарь, и массивные латные рукавицы его отпустились на рукоять длинного рыцарского меча.
Меч был длиной вдвое больше самого длинного из земных мечей, откованных из земного железа. Клинок его светился сквозь ножны, и поражал безупречностью линий и скрытой стремительной мощью.
– Кто ты? – спросил, вставая и запрокидывая вверх лицо, изумлённый аббат.
Но, всмотревшись, он охнул и упал на колени.
– Глем! – простонал он. – Глем! Глем…
Он потянулся, взял в руку край призрачного плаща и поцеловал его. Тогда серебряный великан так же встал на колено, взял в латную длань худую руку аббата и сам поцеловал её.
– Да за что же? – прошептал, слепя глаза жгучей слезой, потрясённый аббат.
– За то, – и с болью, и ласково, и с пронзительной дружеской проникновенностью сказал великан, – что спас жизнь стольким узникам. За то, что надел на своё благополучное тело прокисшее, гадкое, скорбное одеянье башмачника, а потом принял этим же телом десяток беспощадных ударов. И за то ещё, что сжёг меня. Я не успел попросить тебя, и уже отлетевшим духом своим кричал и молил, чтобы не хоронили – и ты услышал.
– Но для чего, – прижимая к лицу край плаща, спросил потрясённый аббат, – не нужно было тебя хоронить?