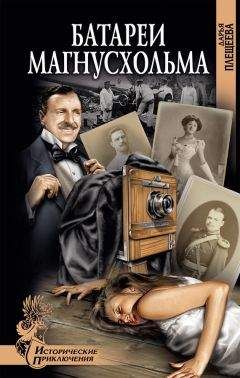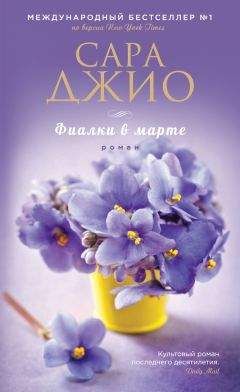Ознакомительная версия.
Вспомнилось измученное лицо Калепа, которого на руках переносили в автомобиль; вспомнились большие картонные папки, которые с торжеством показал Енисеев, — там были чертежи инженера, еще не воплощенные в жизнь; и перепуганная фрау Хаберманн, никак не желавшая покидать гостеприимную усадьбу Гросс-Дамменхоф; и крепкое рукопожатие Лидии Зверевой вспомнилось, и ее замечательная улыбка, и как изворачивался Енисеев, не в состоянии объяснить, куда на самом деле подевалась спасшая ее и Слюсаренко графиня Элга фон Роттенбах…
Вспомнилось — и тотчас было изгнано на задворки памяти. Чтобы не травить душу.
Лабрюйеру совершенно не хотелось вспоминать былые ошибки — и ту, которую он считал роковой, тоже. Он хотел жить так, чтобы прошлое даже в снах не высовывалось из мрака и не пыталось зацепить когтистой лапой. И он добровольно провалился в яму, выход из которой мог быть только один: вспомнить наконец прошлое и на его обломках начать строить настоящее будущее. Потому что идеальное, с его точки зрения, будущее могло быть только продолжением прошлого, то есть — возвращение в полицию, служба инспектором, жизнь лихая, прекрасная и хоть кому-то нужная.
Он шагал по городу, не обращая внимания на мелкий дождь. Ему только казалось, что сильных чувств в жизни больше не будет, потому что не должно быть. Выяснилось, что он способен на мощную и всеобъемлющую ненависть к Енисееву. Причина была невнятной и в слова толком не оформлялась. Можно ли ненавидеть того, кто свысока дал изнемогающему от жажды пустынному скитальцу глоток воды, ровно один глоток? И не более? Пожалуй, можно…
На вокзале Лабрюйер встретил Стрельского и Эстергази. Они ездили за покупками в Ригу и возвращались в Майоренхоф.
— Ну что, кончилось лето? — спросила Эстергази. — Ах, как обидно…
Обидно ей было другое — Линдер объяснил ей, что подарки незримого поклонника придется сдать в полицию.
— С одной стороны, куда еще в такую погоду деваться дачнику, как не в концертный зал, — рассуждал Стрельский. — А с другой — шлепать по лужам ради нашего возвышенного искусства?.. Да будь оно неладно! Впрочем, еще распогодится, — утешал ее Стрельский. — Вот что — нужно будет в «шествии» всем выйти с зонтами! Вот это будет фурор!
— «Шествие» отменяется навсегда. Водолеева так скоро не выпустят, Лиодоров уже не вернется, Енисеев уезжает, — сообщил Лабрюйер. — Завтра днем.
— Так надо же предупредить Ивана!
— Он сам предупредит… Он уже предупредил! — вдруг заорал Лабрюйер. — Он же всегда все делает вовремя! И всегда все за всех правильно решает! Черт бы его побрал!
— Что это с вами, голубчик? — спросила ошарашенная Эстергази.
— Оставьте его, Ларисочка, — вдруг приказал Стрельский. — Если он сейчас примется отвечать на ваши вопросы, то это будет вранье, и потом вам обоим станет стыдно.
— Ах, вот вы как?! — Лабрюйер возмутился беспредельно. — Вы еще смеете?! Да вы такой же неудачник, как я, старый провинциальный неудачник! Чего вы добились?! И вы еще поучаете?!
— Я исполнил замечательную роль Калхаса, — преспокойно ответил Стрельский. — Отличная возрастная роль. А вот вы, молодой человек, своей роли никак не найдете, потому и беситесь.
— Какой я вам молодой человек?!
Но вспышка злобы, неожиданная для самого Лабрюйера, уже угасла. Он опустил голову и уставился на носки своих светлых летних туфель.
— Идем на перрон, — сказала Эстергази. — Провороним поезд — до следующего целых полчаса.
— Ваше счастье, Лабрюйер, что мы с Ларисочкой к таким сценам давно привыкли. Должно быть, вы действительно актер, если изливаете душу в таких трагических монологах. Кто бы мог подумать?
— Какой я, к черту, актер… — пробормотал Лабрюйер, развернулся и поспешил прочь с вокзала.
Ночевать он пришел в квартиру на Столбовой улице, в свою комнатку на пятом этаже. Постельного белья не было — хозяйка все отдала прачке, и он укрылся колючим шерстяным одеялом.
— Сорок лет, старый дурак, — сказал он себе. — Актер, как же! Старый дурак. Жениться надо, вот что… и пусть родня жены подыщет место… сидеть в конторе, перекладывать бумажки из папки в папку… впрочем, есть еще церковный хор, если покаяться — возьмут обратно… Сорок лет — и кто я?
Главного он себе, конечно, не сказал: чтобы жениться на Селецкой, да что жениться — хотя бы для начала руку и сердце предложить, надо быть «кем-то». И то она еще вряд ли захочет слушать — ей же красавцев подавай, вроде подлеца Сальтерна, чтобы свой автомобиль и квартира на улице Альберта, в вычурном доме, а окна в гостиной обязательно в форме огромных замочных скважин, всему городу на удивление!
Селецкую следовало отправить во мрак, к остальному прошлому. Ну не сбылось — так мало ли что не сбылось? Вон в двенадцать лет собирался бежать из дому в Америку к диким индейцам, вовремя изловили — и что же, всю жизнь эту беду оплакивать?
Он до утра ворочался, сражался с одеялом, тихо ругался, лелеял мечту — с утра выйти хоть бы в рюмочную и успокоить душу водкой! С утра — и к вечеру уже настолько прийти в себя, чтобы, явившись в Майоренхоф, надеть фрак, напудрить рожу, припомадить короткие волосы и поехать к Маркусу — петь романсы.
Забылся он под утро — и слышал во сне «Баркаролу».
Когда проснулся — время было чуть ли не обеденное.
В рюмочной, куда Лабрюйер отправился натощак, стояли какие-то гнусные образины. Он посмотрел на них и понял — это такие же сорокалетние мужчины, только совершенно потерявшие человеческий облик. Нужно было искать другое место, где наливают, не такое гнусное. Он пошел по Столбовой в сторону Московского форштадта. Перейти железнодорожные пути, обогнуть Ивановское кладбище — там где-то должен быть трактир, довольно чистый трактир, в этом трактире брали восемь лет назад банду квартирных воров, и тогда же ускользнула юная форточница Лореляй…
Перебраться через рельсы Лабрюйер не сумел — там маневрировал длинный поезд, то останавливался, то трогался. Он повернул налево и пошел в сторону вокзала — где-то же есть удобное для перехода местечко. Чертов поезд, как нарочно, двинулся в ту же сторону. Так они шли примерно с одной скоростью до переезда на Романовской улице. Там Лабрюйер нашел возможность перебежать в Московский форштадт, но трактир искать уже не стал, для этого пришлось бы возвращаться назад, возвращаться же он страх как не любил. Поблизости от вокзала полно было всяких питейных заведений — он решит, что там и найдет подходящее. Да и в здании самого вокзала имелся буфет.
Всего вокзалов в Риге было шесть, раскиданных по городу довольно причудливо. Лабрюйер двигался к тому, что на Станционной. Оттуда уходили поезда в Санкт-Петербург, Москву, Орел, Вильну, Варшаву, Вену, Берлин, так что пассажиры там собирались почтенные, с немалым количеством багажа. Перед вокзалом стояла на видном месте АлександроНевская часовня, построенная в 1889 году в честь чудесного спасения августейшего семейства возле станции Борки.
Ознакомительная версия.