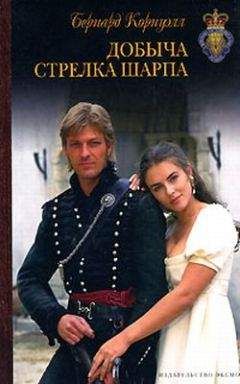Британские гвардейцы, стоящие напротив головы колонны, перезаряжали.
— Готовсь! Пли!
Гвардейцы обеих наций находились так близко друг к другу, что могли видеть агонию в глазах раненых, видеть отчаяние офицеров, теряющих честь, видеть как изо ртов стекает табачная жвачка, а может быть кровь, видеть, как мужество сменяется страхом. Непобедимые, бессмертные императорские гвардейцы начинали сдавать, пятится, хотя бесшабашные палочки мальчишек-барабанщиков продолжали гнать их вперед.
— Готовсь! — голос английского офицера звучал холодно и с издевкой. — Пли!
Сухой треск батальонного залпа разорвал воздух, наполнив его мушкетными пулями, летящими сквозь клубы дыма. Британские гвардейцы остановили продвижение французов, а тем временем Пятьдесят второй сблизился с флангом колонны, сея на нем смерть безжалостным и точным огнем. Часы тренировки выливались теперь в смерть французской колонны: утомительные часы заряжания, шомполования и огня, и так до тех пор, пока пехотинец, даже растолканный с похмелья, не ошибется ни в одном движении. Теперь закопченные лица солдат морщились, когда обитый медью приклад отдавал в ноющее плечо. Да, они были грязной пеной земли, но именно они превращали в кровавое месиво хваленых любимцев императора.
— Пришло ваше время! — вознесся над шумом голос герцога. — Примкнуть штыки!
Императорская Гвардия была остановлена. Теперь ей пора учиться терпеть поражения. Веллингтон посмотрел налево, и понял, что сам потерпел поражение.
* * *
Остатки британской легкой кавалерии вытянулись в линию ярдах в ста позади бригады Холкетта. Они стояли здесь на случай катастрофы. Части конников предстояло препроводить в безопасное место знамена разбитой армии, другая часть должна была прикрыть отступление пехотинцев с помощью последней самоубийственной атаки.
И атака эта казалась неизбежной, ибо кавалеристы видели, как батальоны Холкетта пятятся все ближе к ним. А за этими полуразбитыми войсками, темнея на фоне гребня, из дымной мглы вырисовывалась колонна французской пехоты. На правом фланге британская Гвардия стояла незыблемо и поливала мушкетным огнем другую колонну французов, но здесь, ближе к центру английской линии, «красномундирники» отступали, а солдаты Императора безудержно шли вперед.
— Остановите их! — заорал кавалерийский полковник. Он имел в виду не французов, а британскую пехоту.
Сабли выскользнули из ножен, конные двинулись вперед, чтобы заставить свою пехоту остановиться.
«Красномундирники» пятились. Раненые умоляли товарищей не бросать их. Кое-кто из офицеров и солдат пытался прекратить распространение паники, но батальоны были обезглавлены, они понимали, что битва проиграна — раз их знамена увезены в тыл, — и видели, что длинные штыки французов вот-вот дотянутся до них. Личные волонтеры Принца Уэльского оглядывались назад, ожидая приказов, но видели только своего перепуганного и полуослепшего полковника, скачущего назад. За полковником виднелась кавалерия. «Красномундирники» поглядывали налево, где свободное пространство рождало надежду на успех бегства. Они перестали быть солдатами, они превратились в толпу, готовую вот-вот обратиться в паническое бегство. И тут, покрывая шум барабанов, стук копыт, треск залпов британских гвардейцев и крики французов, восхваляющих своего Императора, над полем боя разнесся могучий голос.
— Южный Эссекский! Стой! — голос проникал повсюду, распространяясь между залитой кровью землей и дымной пеленой. — Сержант Харпер!
— Сэр! — донесся с тыла батальона голос Харпера.
— Убивать всякого, кто сделает еще хоть шаг назад, не исключая офицеров!
— Есть, сэр! — ярость, слышавшаяся в голосе Харпера звучала обещанием, что он действительно готов прикончить любого, кто посмеет отступать.
Шарп стоял перед батальоном, развернувшись спиной к французской колонне. Его лошадь, на которой ездил д’Аламбор, держал под уздцы сержант из гренадерской роты. Шарп подозревал, что парень готов вскочить в седло и дать деру, тот смотрел на него со страхом и неудовольствием.
— Веди лошадь сюда! — скомандовал ему Шарп, но без злости, ровным голосом, как будто сзади на расстоянии пистолетного выстрела не было никакой чертовски огромной колонны победоносных французов, готовой перевалить через гребень.
— Веди лошадь сюда! Живо! — Шарп хотел забраться на лошадь, чтобы все солдаты батальона видели его. У этих ребят не было больше знамен, у них осталось слишком мало офицеров, так что им надо было видеть того, кто в состоянии повести их, кто осмеливается не бояться этой страшной, грохочущей барабанами тучи, подошедшей так близко.
— Построиться! Быстро!
Шарп сунул винтовку в кобуру седла, потом неуклюже залез на лошадь. В душе он боялся, потому что ожидал залпа французских мушкетов, которые сметут его вместе с лошадью, но перед лицом испуганного батальона не смел показать вида. Они знали его, доверяли ему, и Шарп знал — они будут драться как проклятые, дай им только шанс и вождя. Он поблагодарил подведшего лошадь сержанта и, продев левый носок в стремя, повернулся, оглядывая четыре неровные шеренги.
— Проверьте, заряжены ли ружья! — он тронул лошадь, поворачиваясь к врагу. Господи, как они близко! Французы направлялись к открытому пространству справа от Личных волонтеров Принца Уэльского, где сбежавший батальон образовал брешь в линии. Шарп поразмышлял, не стоит ли заткнуть ее своими людьми, но было уже поздно. Французы почти прорвали линию британцев, и таким образом подставили под огонь свой открытый правый фланг. На этом фланге гарцевал на коне французский офицер; он направил шпагу на Шарпа, видимо, указывая своим людям цель. Самоуверенный вид этого офицера взбесил Шарпа; он с презрением отвернулся от врага и обратился к своим солдатам.
— Мы выдвигаемся! А потом угостим этих вшивых ублюдков несколькими мушкетными залпами!
Он посмотрел на ловивших его слова солдат. Закопченные, окровавленные, пристыженные, они теперь воспряли духом, а их мушкеты были заряжены. Да, этот батальон мог показаться малочисленным и полуразбитым, но для Шарпа он представлял собой орудие, способное сражаться с убийственной силой. Полковник моргнул, когда пуля пролетела совсем близко от его лица, но, потянув из ножен длинный палаш, улыбнулся. Он хотел, чтобы все заметили его радость, потому что это был именно тот момент, когда солдат начинает ощущать удовольствие от убийства. Угрызения совести и жалость придут позже, они — привилегия победителей, но теперь это отребье будет убивать, и враг должен трепетать, видя наслаждение, с которым оно это делает. Шарп вскинул палаш, потом опустил его, указывая на врага.