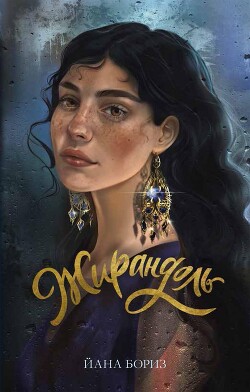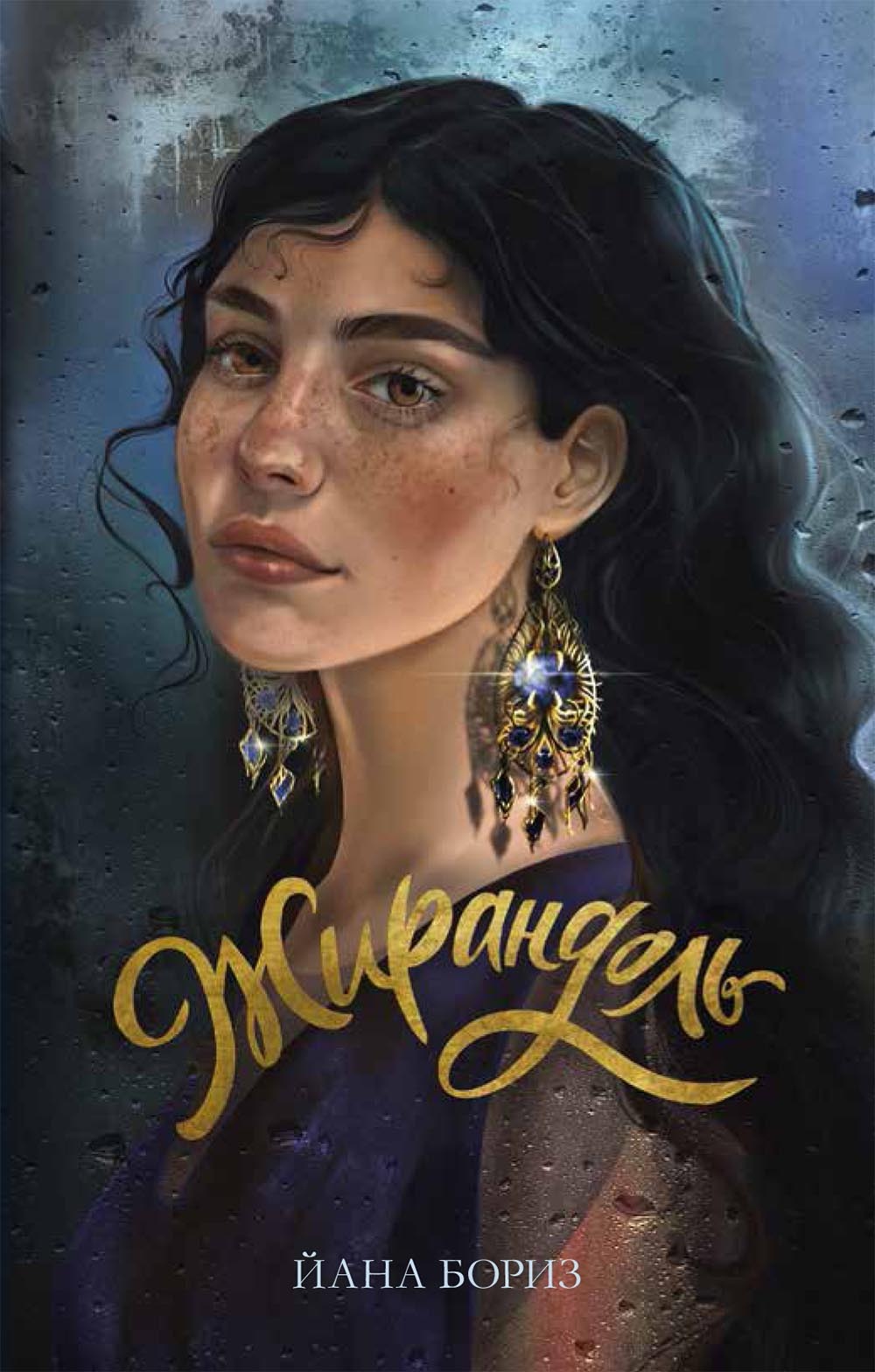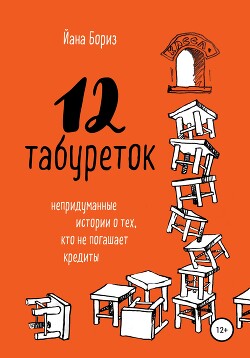– Так ты из ссылки прибыл? – Протоиерей понизил голос. – Какими судьбами пробрался?
– Переселенец. Отпросился. Мы теперь казахстанцы, свой дом под Акмолинском, хозяйство. Ничего, жить можно, не жалуюсь. Для супруги и дочки благословения испрашиваю.
Отец Протасий пошептал губами, снова сотворил крестное знамение, собрав в щепоть потрескавшиеся, мозолистые пальцы. «Эх, нехорошо, – подумал мельком, – руки у протоиерея должны сверкать чистотой и холеной негой, они для того даны, чтобы над людскими головами простирать, паству благословлять, а не в земле ковыряться и доски строгать».
– Воистину неисповедимы пути Господни. – Он вознамерился прощаться, в храме ждали дела, и в монастырь следовало заглянуть, обсудить, как половчее справить церковные праздники, чтобы не разгневать правителей-антихристов. – Бог тебя не забывает, и ты о нем помни, Платон. Приходи в воскресенье на службу, если задержишься в Курске, потом отобедаешь с моими. Мало нас осталось…
– Приду, – обрадовался Платон, – дельце у меня в этих местах, в воскресенье и обсудим.
Он широко перекрестился на висевшее над трапезной «Откровение Иоанна Богослова», вышел, наклонив голову, пересек пестривший ополоумевшими бархатцами дворик и оказался за глухими воротами в подстаканнике могучих каменных тумб. Здесь он повернулся лицом к храму и еще трижды перекрестился с поклонами. Сорная трава росла до колен, в помпезные ворота с накладной чеканкой вела узкая криво протоптанная тропинка.
– Ну как? – к нему подошел Айбар.
– Признал, зёма! – Платон повернулся и неторопливо побрел в сторону Тускари. – Но поговорить не удалось. Господь даст, в воскресенье.
– Инш Алла, – эхом откликнулся спутник.
Сенцов шел по родным улицам и не узнавал их. Вместо трактира стадион, вместо публичного дома – школа. Это не его город. Тот Курск цвел жимолостью, а этот ржавыми арматурами, в его городе щебетали птицы, а здесь стучали-жужжали-матерились разнокалиберные машины. К лавке Пискунова он подходил с учащенным сердцебиением. А вдруг там ничего нет, стерта фашистскими снарядами или пошла на слом по велению властей? Это же не просто лавка – это корень, из которого выросла его семья. Они живут сейчас листочками на далекой акмолинской веточке. Вот какой мощный ствол родила табачная лавка, и ветки прочные, длинные – не перерубить красным топором, не перешибить фашистскими пулями.
Дом стоял, слегка потрепанный, но жилой. На верхнем этаже из распахнутого окна торчали палки с натянутой веревкой, на которой сушились серые подштанники и разноцветное детское тряпье. На подоконнике громоздился трофейный приемник, цветочных обоев не видно. Платон постоял, посмотрел на Тонину комнату из прошлого. Сердце успокоилось, поймало привычный ритм. Ну и пусть уходит прошлое с несбывшимися мечтами. В настоящем-то все исполнилось, все грезы спустились в его натруженные руки, ласково и надежно отгородили от минувших разочарований. Он подошел к лавке без вывески, осторожно потянул на себя дверь. Изнутри пахнуло знакомым – табак. Неужели? Да, за старым прилавком, который помнил и Платона, и Ивана Никитича, и Ольгу, и Луку Сомова, и второго, безымянного, стояла молоденькая барышня в клетчатой косынке, за ее спиной поблескивали жестяные коробки с сигарами, бугрились мешки с трубочным и лежали россыпью несколько пачек «Казбека» и «Беломорканала». Деревянные полки поистерлись, фронтальный торец больше походил на штакетину в овчарне, которую Платон самолично обстругал, чтобы бараны ягнят не затоптали. С прилавка свисала грязная клеенка, в углу швабра стыдливо пряталась за раскуроченные ящики. М-да, Иван Никитич не позволил бы торговать в таком раздрае.
– А что, папирос «Герцеговина Флор» нет ли у вас? – поинтересовался он у барышни, не чтобы купить, он по-прежнему табака не курил, не нюхал и не жевал, а просто чтобы не уходить, чтобы подышать здесь еще немного.
– Давно нет, дедушка, – приветливо ответила продавщица.
«Дедушка» больно резанул ухо, Платон еще раз оглядел почерневшие углы, израненную изразцовую печь и вышел, не кивнув на прощанье. Больше он сюда не придет. То, о чем плакало сердце в бескрайней степи, давно умерло и оплакано. Надо думать о живом.
До воскресенья оставалось три дня, их следовало посвятить кладбищу, привести в порядок родные могилки. Айбар хотел все сделать сам, боялся за старого, но тот не уступал, хватался за кирку и лопату. Работа кипела, предкам долженствовало радоваться и покровительствовать их непростому делу.
– Красиво, Платон-ага. – Айбар удовлетворенно провел мокрой тряпкой по свежесложенной кирпичной ограде и вытер со лба пот. – Теперь надо бы лепешки испечь.
– Надо бы…
– Я Асе позвоню, попрошу.
– Вообще-то они православные, им вроде и не нужны лепешки. – Платон потянулся и закряхтел: спину немилосердно ломило.
– Лишним не будет. Какая разница?
– Ты знаешь, Айбар, я ведь никогда не думал, что побрякушки могут меня дождаться. Ведь войны и всякая прочая акробатика. А когда узнал, что Авдей настоятелем в Никольском, когда он меня признал и по плечу похлопал… – Тяжелый вздох вылетел из груди и присел на кладбищенскую ограду. – Тогда я понял, что это Бог нам помогает. Только он один, прочим не под силу. Теперь я думаю, что все получится.
– Инш Алла, – завороженно повторил Айбар.
– На этом кладбище мои дед и прадед похоронены. А я не хочу. Пусть надо мной степные ковыли стоят. Где жил счастливо, там и похороните. – Его плечи сгорбились под ношей важных мыслей, слова выдавливались с трудом: – Ты знаешь, я ведь уже старый.
– Надо же, а я думал… того-самого… совсем молодой! – Шутка заставила обоих улыбнуться, но напряжение не ушло, лишь отступило немного, спряталось за ближний камень.
– Где-то молодой. – Старик похлопал себя сначала по лбу, потом по груди. – А где-то староват. – Рука потянулась назад, погладила поясницу, вернулась и легла на правое колено. – Так вот, мне надо позаботиться о Катюше. Если Бог нас с Тоней приберет раньше, чем она сможет на своих ногах по жизни идти, то вы с Асей будьте ей вместо родителей. Договорились?
– Что вы говорите, Платон-ага? – запротестовал Айбар. – Вы сами ее вырастите и замуж выдадите. Еще на свадьбе погуляем.
– Семьдесят один.
Цифра повисла над головами без комментариев.
– Хорошо. Конечно, мы станем ей семьей, не сомневайтесь. Мы и так все эти годы были одной семьей.
– Потому и притащился с тобой сюда и пойду к отцу Протасию, буду умолять, врать, хоть и не пристало так с духовным лицом.
– Я все… того-самого… все понимаю. Но лучше бы вы все-таки подольше пожили. – Айбар схватил ведро и побежал к колодцу: требовалось полить воткнутые в землю луковицы и семена, пусть славные предки Сенцовых лежат под цветущими холмиками и их аруах помогает во всем копошащемуся в грязи потомству.
К воскресенью погода испортилась, сливовые тучи набрякли гроздьями, обещая с минуты на минуту выплеснуть на улицы гремящий урожай. Ветер кашлял, выхаркивая редкие капли, готовился к атаке. Отец Протасий хотел посидеть с гостями в саду, но не задалось, и они устроились в темной горнице под одинокой грушей лампочки.
– Так тебе там и нравится, выходит? – удивлялся в который раз Протасий, выслушивая про житье-бытье в казахской степи.
– У меня дом, семья, на службе уважение, – перечислял Платон, загибая заскорузлые пальцы, – живу, ни на кого не оглядываюсь. Кому такая акробатика не понравится?
– И то верно, а я всю жизнь при церкви, вроде под приглядом Господа, а сам все время озираюсь. Отступников много вокруг, доносчиков. И меж нас тоже попадаются.
– Так оно и допрежь было. Разве Иуда не доносчик?
Отец Протасий быстро приложил палец к губам и зашипел:
– Тс-с-с… Хватит о таком… А ты зачем сюда приехал?
– Да захотелось наведаться в родные места. И вот он, – Платон показал на Айбара, – защищал город в войну, хотел посмотреть, каков Курск-батюшка в мирное времечко.
Айбар опустил глаза: в действительности он никогда не был под Курском, и это легко проверить. Но теперь уже поздно отнекиваться: раз Платон-ага решил врать, надо кивать головой. Хотя… нехорошо это – лгать такому человеку.