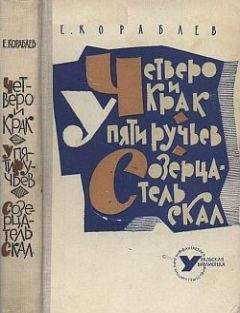Как только Петр подъехал к банку, навстречу ему вышел служащий в строгом черном костюме, вежливо спросил, что господину угодно, и, мельком взглянув на аккредитив, который предъявил ему Петр, щелкнул пальцем и вызвал слугу, приказав позаботиться о лошади синьора, и по мраморному вестибюлю, освещенному позолоченными канделябрами, провел Петра в комнату, роскошнее и дороже которой трудно было себе что-либо представить: паркетный пол, выложенный, словно мозаика, из дерева ценнейших экзотических пород, покрывали редкостные восточные ковры, лепной потолок украшали золотые надписи, побуждающие к серьезным размышлениям: как-то: «Fugit irreparabile tempus», что означает: «Время уходит безвозвратно», или «Delenda Carthago» — то бишь «Карфаген должен быть разрушен», «Gratis pro Deo» — «Безвозмездно из любви к Богу»; в восьмигранных застекленных шкафах были выставлены алебастровые статуэтки: богиня Юнона в колеснице, запряженной павлинами, Ромул и Рем, которых кормит волчица, похищение сабинянок и тому подобное; в середине комнаты, под ярко горящей турецкой люстрой, стоял стол на тонких золоченых ножках, а вокруг него — удобные кресла, обитые позолоченной кожей. На столе лежали инкунабулы творений Боккаччо, Батисты и Банделло.
Уверенный, что господин Лодовико Пакионе поспешит и немедля лично займется делами клиента, Петр уселся в одно из кресел и стал ждать. Но поскольку способность ждать не принадлежала к числу замечательных его талантов, то несколько минут спустя он потерял терпение, встал и повернул ручку искусно вырезанных позолоченных дверей; но они выдержали его напор и даже не шелохнулись: очевидно, двери заперли на ключ или, вернее всего, — поскольку Петр не слышал ничего похожего на звяканье ключа в замке, — снаружи задвинули засов, а так как в этом доме ни на чем не экономили, то можно было себе представить, что засов этот был прочный, всем засовам засов.
Так вот и случилось, что когда капитан д'Оберэ в трактире «Коммерчо» доедал запеченный до золотистой корочки рулет, запивая его огненным тосканским кьянти, в зал вошел солидный, хорошо одетый мужчина и степенной походкой направился к столу, за которым ужинали его друзья, синьоры, все без исключения такие же почтенные, как и он сам, и, еще идя к стулу, который ему придвинул услужливый cameriere[127], произнес, явно взволнованно, несколько веселясь при этом, как это бывает с людьми, по характеру не склонными к авантюризму, но ставшими свидетелями волнующих событий, их лично, слава богу, не касающихся, — что в банке Пакионе, где он только что находился по торговым делам, произошло нечто совершенно невероятное, ужасное, ибо хоть такие вещи и случаются, но от этого не становятся менее потрясающи и ужасны. Будто бы час тому назад или около того к Пакионе на загнанной лошади прискакал служащий страмбского банка Тремадзи, чтобы задержать выплату аккредитива, который какой-то совершенно незнакомый лаццарони — в эти тяжкие времена они налетели на Италию, словно саранча, — украл у графа Гамбарини, лучшего клиента банка Тремадзи. Едва сообщив об этом, служащий потерял сознание от усталости, но, оказалось, спешил он не зря, потому что не прошло и пяти минут, — да, да, вы слышите, господа, — не прошло и пяти минут, как упомянутый похититель аккредитива въехал во двор банка как ни в чем не бывало и потребовал — подавай, мол, ему деньги. Это случилось так внезапно, что мажордом Пакионе не знал, как с ним поступить, и, прежде чем послать за стражей, запер вора в приемную для самых знатных клиентов; и это было ошибкой, потому что приемная — исключительной ценности, она так великолепно обставлена, что однажды, когда там оказался какой-то испанский гидальго, любитель жевательного табака, он просто не знал, куда ему табак сплюнуть, потому что все там было слишком изысканно, и тогда он плюнул слуге в лицо. «Извини, — сказал он ему, — но единственное безобразное место, которое я здесь вижу, это твоя рожа».
Но наш лаццарони, менее наблюдательный, чем тот испанский гидальго, увидев, что из комнаты ему не выйти, начал бушевать, ломать мебель и всякие старинные предметы и нанес такой ущерб, который во много раз превзошел стоимость аккредитива; когда же его пришли арестовать, он так яростно оборонялся, что ранил трех человек, и был обезоружен, только когда сбежался весь персонал банка: и писари, и кладовщики, и конюхи. Потом его отвели в тюрьму для узников, совершивших тяжкое преступление, на левый берег Тибра.
Петру не было известно, что, собственно, люди, ведомые Справедливостью, имеют против его скромной особы и за какие именно провинности за ним послали стражу, чтобы арестовать и бросить в тюрьму; может, только за то, что он отважился предъявить к оплате аккредитив, который, строго говоря, принадлежал не ему; а может, и потому, что он якобы — по бесстыдному навету Джованни — убил герцога Танкреда. Но даже в том случае, если преступное и лживое толкование смерти герцога Джованни оставил при себе или ограничил официальное действие этой версии лишь пределами Страмбы, у Петра и без того хватало прегрешений, чтобы опасаться крупных неприятностей — ведь за кражу аккредитива, усугубленную ранением, а может, и убийством нескольких стражников, уже могут приговорить к казни через повешение с предшествующим отсечением руки, если не колесованием, потому что он, чужестранец, не может предъявить свидетельств своего дворянского происхождения, что дало бы ему возможность претендовать на более мягкое наказание. Теперь нужно было бороться за свое спасение, не раздумывая и не теряя ни секунды, не давая себе ни малейшей передышки, потому что здесь не было ни Финетты, которая помогла бы ему выбраться на свободу, ни доброго пана Войти, который принял бы его как родного сына и испросил ему помилование; и так как спасение таким путем было немыслимо, потому что из тюрьмы, куда его бросили, собственными стараниями выбраться было нельзя, пришлось напрячь все силы и энергию, доведя их до такого сверхъестественного состояния, когда человек может творить чудеса и для него уже нет ничего невозможного.
Его камера, маленькая и зловонная, помещалась под самой крышей древней цитадели на левом берегу Тибра, напротив тяжелой усеченной громады замка Сант-Анджело; в давние времена она, несомненно, была одной из тех дерзких крепостей, которые дворяне, потомки древних итальянских родов, воздвигали прямо под носом у святого отца, противясь его власти. Так вот, когда Петра бросили в эту камеру, вернее, еще раньше, когда его вели вдоль стен, сложенных из крупного камня, всегда сырого и обжигающе холодного, по скользкой лестнице, по сводчатым переходам, коридорам и коридорчикам, его преследовало ощущение, что случившееся — не последняя неприятность в его жизни, и только эта мысль вселяла в него надежду. Он вспоминал одно недавнее сновидение, скорее, часть его, некий сон во сне, когда ему привиделось, что он спасался из тюрьмы при помощи пилки, спрятанной в каблуке левой туфли. — он перепилил ею тюремную решетку. Туфли, что сейчас были на Петре — когда-то он выбрал их среди готовой обуви на складе герцогского дворца, — имели одну модную и своеобразную особенность, над которой добродушно посмеивался мастер Шютце. До сих пор Петр разделял его насмешки, но сейчас, как только за ним захлопнулась дверь, прогремел ключ и отзвучали шаги стражи, он схватился за левую туфлю, как утопающий, которому на этом свете не остается ничего, кроме ничтожной соломинки, бросился на койку и, упершись левой туфлей в правую, — так, как мама строго-настрого запрещала ему делать, — снял ее и, зажав подошву меж колен, лихорадочно начал отвинчивать каблук, что потребовало немалых усилий, потому что нарезка винта заржавела и заклинилась.