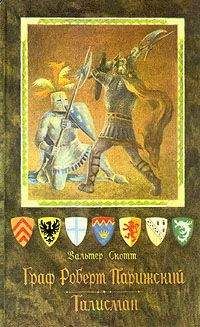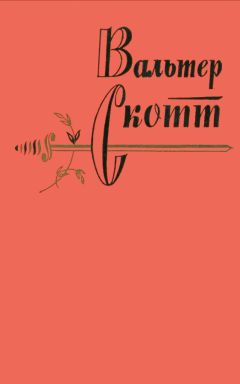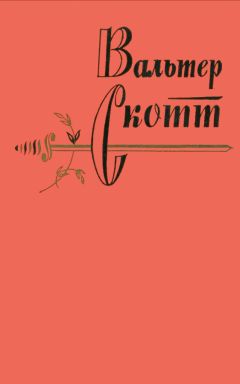И он направился ко дворцу патриарха Зосимы, которому мог спокойно открыться, ибо тот уже давно считал Агеласта тайным врагом церкви и приверженцем древних языческих учений. На государственных советах они всегда выступали друг против друга, и Алексей не сомневался, что, посвятив патриарха в тайну заговора, приобретет в его лице верного и надежного помощника в борьбе с изменниками. Он тихо свистнул, и в ответ на этот сигнал к нему тотчас подъехал доверенный слуга, незаметно сопровождавший его на некотором расстоянии.
Алексей Комнин поехал к патриарху — быстро, однако не настолько, чтобы привлечь на улицах чье-либо внимание. По дороге ему не раз приходила на ум угроза Агеласта, и совесть напоминала о слишком многих событиях его царствования; хотя их можно было оправдать необходимостью
—: обычной отговоркой всех тиранов, но они вполне заслуживали жестокого возмездия, которое так долго откладывалось.
Когда показались величественные башни, украшавшие фасад патриаршего дворца, Алексей свернул в сторону от высоких ворот, въехал в небольшой двор, спешился и, передав мула своему прислужнику, остановился перед какой-то дверью с низким сводом и скромным архитравом, которая, судя по ее неказистому виду, не могла вести во дворец. Однако когда Алексей постучал, ему открыл священник, хотя и невысокого чина; как только император назвал себя, он, низко склонившись, впустил его и провел во внутренние покои. Там Алексей потребовал тайного свидания с патриархом, и его проводили в библиотеку Золимы, где престарелый патриарх принял императора с глубоким почтением; впрочем, после того, что поведал ему Алексей, все другие чувства сменились у него изумлением и ужасом.
Многие приближенные и особенно некоторые члены семьи считали религиозность Алексея просто ханжеством, но эти строгие судьи несправедливо приписывали ему это отвратительное свойство. Разумеется, он понимал, какую поддержку оказывает ему доброе отношение духовенства, и всегда был готов идти на жертвы ради церкви или отдельных священнослужителей, хранящих верность престолу; хотя обычно Алексей приносил эти жертвы, имея в виду какие-нибудь политические выгоды, сам он все же считал их проявлениями благочестивых чувств и приписывал своей набожности те поблажки и уступки, которые по сути дела являлись плодами вполне мирской политики. Он смотрел на эти меры, словно человек, страдающий косоглазием и видящий вещи по-разному, в зависимости от того, каким глазом ему случается на них взглянуть.
Исповедуясь перед патриархом, император признался в прегрешениях, совершенных им за время» своего царствования, должным образом оценивая свои проступки против нравственности, обнажая их суть и отбрасывая те внешние обстоятельства, которые в свое время ему самому казались смягчающими. Патриарх был весьма удивлен, узнав истинную подоплеку многих придворных интриг, которые представлялись ему совсем в другом свете до той минуты, когда признания императора либо вполне оправдывали его поведение, либо лишали его всяческого оправдания;
В целом чаша весов, несомненно, больше склонялась, в сторону Алексея, чем это казалось патриарху прежде, когда он глядел на дворцовые интриги издали, — ведь обычно министры и царедворцы, шумно одобрив на совете самые недостойные действия самодержца, затем распускают слухи о таких преступных его замыслах, какие ему и не снились. Многие люди, павшие, по общему мнению, жертвой личной ненависти или подозрительности императора, на самом деле были убиты или лишены свободы лишь потому, что, останься они в живых или на воле, и монарху и самому государству постоянно грозила бы опасность.
Зосима также узнал — может быть, он подозревал об этом и раньше, — что Греческую империю, безгласную как всякая деспотия, часто сотрясают глухие подземные толчки, говорящие о том, что в недрах ее кроется вулкан. И в то время как мелкие провинности или проявления открытого недовольства императором были редки и строго наказывались, тайные и самые коварные заговоры против жизни и власти Алексея замышляли люди, которые ближе всех стояли к его особе; хотя он зачастую знал об этих заговорах, воспользоваться своей осведомленностью он решался лишь тогда, когда дело близилось к развязке.
Патриарх с изумлением выслушал подробный рассказ об измене кесаря и его сообщников — Агеласта и Ахилла Татия; особенно поразила его ловкость, с какой императору, знавшему о существовании такого опасного заговора у себя в стране, удалось в то же время отразить другую опасность, грозившую ему со стороны крестоносцев.
— На сей раз мне очень не посчастливилось, — сказал император, когда патриарх намекнул ему на то, как он удивлен. — Если бы я был уверен в собственных войсках, я мог бы занять любую из двух вполне мужественных и честных позиций в отношении этих неистовых западных воителей: я мог бы, святейший отец, использовать золото, уплаченное Боэмунду и другим его корыстным соратникам, на открытую поддержку западного христианского воинства и благополучно переправить крестоносцев в Палестину, избавив их от потерь, которые и так предстоят им в борьбе с неверными; их успех был бы, по существу, моим успехом, а латинское королевство в Палестине, охраняемое воинами, закованными в сталь, обратилось бы в надежную и непреодолимую преграду между империей и сарацинами. Или же, если б это было сочтено более приличествующим достоинству империи и святой церкви, над которой ты властвуешь, мы могли бы сразу с оружием в руках встать на защиту наших границ от полчищ, управляемых таким множеством вождей, да еще несогласных между собою и идущих на нас с такими двусмысленными намерениями. Если первый рой этой саранчи, под началом Вальтера Голяка, как они его звали, пострадал от венгров и был полностью уничтожен турками — ведь об этом все еще напоминают груды костей на наших рубежах, — то, уж конечно, всем объединенным войскам Греческой империи было бы нетрудно во второй раз рассеять саранчу, хоть ею и предводительствуют все эти Готфриды, Боэмунды и Танкреды.
Патриарх молчал; не любя, вернее — ненавидя крестоносцев за их принадлежность к латинской церкви он все же сомневался, чтобы греческие войска могли победить их в сражении.
— Во всяком случае, — правильно истолковав его молчание, продолжал Алексей, — если б я оказался побежденным, я пал бы на поле боя, как подобает греческому императору, и не был бы вынужден прибегать к таким низким уловкам, как нападение из-за угла и ссылки на то, что это, дескать, были неверные; а преданные защитники Греции, погибшие в никому не известных стычках, достойно пали бы в борьбе за своего императора и свою страну, что было бы лучше и для них и для меня. При нынешних обстоятельствах, я сохранюсь в памяти потомков как коварный тиран, который вовлекал своих подданных в роковые междоусобицы ради сохранения своей ничтожной жизни. Но эти преступления, патриарх, лежат не на моей совести, а на совести мятежников, вынудивших меня своими кознями прибегнуть к таким средствам… Что же ожидает меня в будущей жизни, святой отец? И каким предстану я перед потомством, я, виновник стольких бедствий?