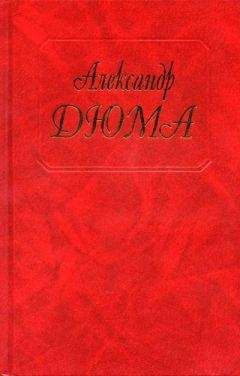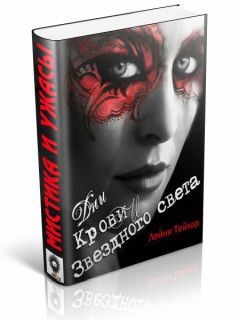Он без труда отыскал своих знакомцев-егерей, которые велели ему держаться подле них, чтобы пропустить его в ту минуту, когда император будет сходить с лошади.
Подоспели они вовремя, так как почти тотчас площадь, и без того похожую на муравейник, затопила настолько густая толпа, что Трихтер и Роймер, зажатые в ней, более не могли ни двинуть рукой, ни рассмотреть что-либо в непролазной людской гуще.
Трихтеру казалось, что время несется с быстротой молнии. В висках у него отчаянно стучало. Сердце в его груди трепетало, словно суденышко, тонущее в бурном море. Он страстно жаждал отказаться и от затеи с прошением, и от куска хлеба для своей матери.
У него даже мелькнула надежда, что император повернет назад, заключит мир с Россией и вернется во Францию, не заходя во дворец князя-примаса.
Вдруг грянули фанфары, загремели барабаны, и Наполеон вступил на площадь, сопровождаемый ураганом восторженных криков.
Император ехал верхом рядом с каретой императрицы. Он приветствовал толпу.
А Трихтер чувствовал, что он совсем растерялся при одном приближении этого властителя, который, подобно Атласу, держит мир на своих плечах, в своей голове, а то и на ней — вместо короны.
Подъехав ко дворцу князя-примаса, Наполеон спешился.
Князь-примас, обнажив голову, ждал его на пороге вместе со своей свитой.
Он обратился к Наполеону с выражениями пламенного восторга, и тот произнес в ответ какие-то слова благодарности. Потом императрица вышла из кареты, и властительная чета направилась к лестнице, ведущей во дворец.
— Иди же! — сказал Трихтеру один из егерей. — Самое время. Скорее!
Трихтер бросил на Роймера душераздирающий взгляд.
— Молись за меня! — шепнул он.
Потом, с лихорадочным жаром стиснув ему руку, он бросился вперед, шатаясь, увы, не от вина!
— А, немецкий студент! — промолвил Наполеон. — Люблю это гордое юношество. Чего ты хочешь, друг мой?
Трихтер хотел отвечать, но голос его сорвался, и он не смог произнести ни слова.
Все, что Трихтер сумел сделать, — это протянуть прославленному императору прошение, которое он держал в правой руке, причем из-за этого ему пришлось пожертвовать своей фуражкой, которую он сжимал в левой руке, и, не будучи в силах удерживать два предмета сразу, уронил ее.
Император принял прошение с улыбкой.
— Ну, успокойтесь же, — сказал он. — Вы говорите по-французски?
Сделав над собой чудовищное усилие, Трихтер пролепетал:
— Моя мать… Ваше величество… Мой дядя тоже… умер… Но я… я не француз.
Он и сам чувствовал, что говорит нечто противоположное тому, что собирался сказать.
— Что ж! — произнес император. — Поскольку вы владеете французским, идемте со мной. Вы мне сами расскажете, в чем состоит ваша просьба.
Торжественно загремели барабаны, и император стал подниматься по лестнице, все еще держа в руках прошение.
Трихтер плелся следом, ошеломленный, отчаянно смущенный тем, что он пробрался в этот пышный кортеж, раздавленный всей этой славой, опьяневший от всего этого блеска, тонущий и готовый раствориться в сиянии столь ослепительного светила.
И вот он вошел в приемную залу.
Император милостиво приветствовал королевских и княжеских посланцев. Для каждого у него нашлось какое-нибудь любезное слово.
С генералом Шварценбергом, представителем Австрии, он повел речь о его талантах полководца, заверив, что они ему известны и он их ценит.
Барону фон Гермелинфельду, явившемуся засвидетельствовать почтение от имени короля Пруссии, он сказал, что наука не признает границ между странами и что умы, подобные его собеседнику, самым своим существованием служат сближению людей и народов.
Когда же ему назвали имя посланника герцога Саксен-Веймарского, он с живостью устремился ему навстречу, отвел его в сторонку, несколько минут тихо беседовал с ним, а прощаясь, произнес:
— Господин Гёте, вы человек в полном значении этого слова.
Аудиенция подошла к концу, и князь-примас предложил императору пожаловать в пиршественную залу.
— Соблаговолите проводить туда императрицу, — сказал Наполеон. — Я сейчас присоединюсь к вам. Мне надо лишь отдать кое-какие распоряжения. Ах, да! Где же мой студент?
Трихтер, успевший несколько прийти в себя в то время как внимание императора было устремлено на других, почувствовал, что проклятое смятение снова овладевает им. Кто-то подтолкнул его, и он вошел в кабинет, куда император направился в сопровождении всего-навсего одного секретаря и двух адъютантов.
Наполеон присел к столу.
— Итак, мой друг, — обратился он к Трихтеру, — о чем вы хотели меня просить?
— Сир, моя мать… или, вернее, мой дядя… Да, сир, храбрый солдат вашего величества… — коснеющим языком попытался вымолвить Трихтер.
— Да придите же в себя, — сказал император. — Где ваше прошение? А, вот оно.
И он протянул его Трихтеру:
— Вот, возьмите. Если не можете говорить, читайте.
Студент взял прошение, распечатал и трясущимися руками развернул. Но едва лишь он бросил взгляд на него, как побледнел и зашатался.
— Ну же! Что там еще? — спросил император.
Трихтер рухнул на пол, бездыханный, скорченный.
Адъютанты бросились к нему.
— Не приближайтесь, господа! — крикнул император, вставая с места. — Здесь что-то кроется.
— Не сходить ли за доктором? — спросил адъютант.
— Нет, — отвечал император, вглядываясь в распростертого Трихтера. — Ступайте за бароном фон Гермелинфельдом. Но не поднимайте шума: никаких скандалов, ни слова. Пусть барон придет один.
Минуту спустя вошел барон.
Император обратился к нему:
— Господин барон, вот человек, который только что упал, будто сраженный молнией, взявшись прочесть эту бумагу. Посмотрите, она здесь, на полу. Не прикасайтесь к ней: он рухнул, едва успев ее развернуть.
Барон приблизился к Трихтеру.
— Этот человек мертв, — сказал он.
Потом он подошел к камину, взял каминные щипцы и с их помощью подержал бумагу над дымом, не позволяя ей вспыхнуть.
С особенным вниманием он при этом следил, как дым, касаясь бумаги, мети цвет.
Затем, спустя минуту, он с большими предосторожностями взял бумагу, неторопливо рассмотрел ее, пощупал, понюхал.
И вдруг побледнел так, что это ни от кого не укрылось.
Он узнал ядовитую смесь, рецепт которой, найденный в средние века, во всем современном мире был известен лишь двоим: ему самому и Самуилу.
— Вы побледнели, — заметил император.
— Это ничего, — отвечал барон. — Должно быть, остаточные испарения яда…