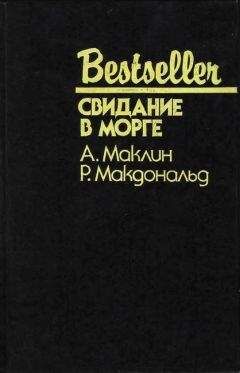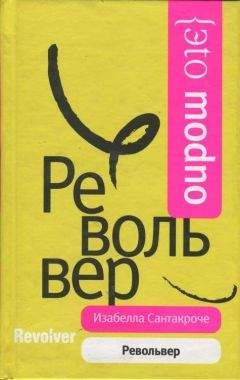С вечера понедельника — до 3 ч. утра вторника
Кольты выпускают уже более ста лет без малейших изменений в конструкции. Те, что продаются сегодня, — точные копии кольта Витта Эрпа, знаменитого шерифа из Додж-Сити. Кольт — старейший и уж точно самый известный револьвер на свете, и если за критерий оценки принять результативность, имея в виду извечное стремление человека кого-нибудь искалечить или убить, то придется, видимо, признать его наилучшим, из приспособлений такого рода. Конечно, нельзя сказать, что это полный пустяк, если тебя достанут из какого-нибудь другого, конкурирующего с кольтом оружия, например из люгера или маузера, но их пули — обладающие большой начальной скоростью, малым калибром и стальной оболочкой — просто проходят сквозь тело, оставляя маленькую круглую дырочку, а основную часть своей энергии разряжают где-нибудь — в сторонке. Зато лишенная стальной оболочки большая оловянная пуля, вылетевшая из дула кольта, расплющивается в момент соприкосновения с твоим телом, раздирает мышцы и ткани, дробит кости и именно на это тратит всю свою энергию.
Словом, если пуля из кольта ранит тебя хотя бы в ногу, тебе отнюдь не удастся, изысканно сквернословя, заскочить за угол, с тем чтобы, закурив сигаретку, шикарно всадить заряд в своего противника, причем безошибочно — меж глаз. Увы, раненный в ногу из кольта, ты останешься лежать на земле в глубоком обмороке. Если же пуля попадет в бедро и тебе так повезет, что ты переживешь шок и разрыв артерий, ты все равно уже никогда не будешь ходить без костылей, поскольку хирургу, сколько бы он ни ковырялся в раздробленных костях, все равно придется ногу отрезать.
Вот я и стоял совершенно неподвижно, сдерживая дыхание, потому что кольт, вызвавший столь неприятные размышления, был направлен точно в мое правое бедро.
Еще кое-что о кольте: приведение в действие его полуавтоматического механизма требует очень сильного, но одновременно и прочувствованного нажатия на курок — чертовски неприцельно бьет эта пушка, если не держит ее сильная и уверенная рука. Правда, в данном случае у меня не было на это никакой надежды. Рука, державшая револьвер, легко, но уверенно опиравшаяся на столик радиста, была самой спокойной рукой, какую я только видел в жизни. Она была неподвижна в самом прямом смысле этого слова. Я видел ее очень ясно, хотя свет в каюте радиста был слабым, а абажур лампы направлял его на поцарапанную металлическую поверхность стола так, что желтый спои высвечивал только руку на высоте манжеты рубашка. Рука, которую я видел, казалась рукой мраморной статуи. За кругом света я не столько видел, сколько чувствовал фигуру человека, сидящего в полумраке, опершись о переборку, со слегка склоненной головой и застывшими глазами, поблескивающими из-под козырька фуражки. Я снова посмотрел на неподвижную руку. Направление дула кольта не изменилось даже на миллиметр. Почти подсознательно я напряг мышцы правой ноги, ожидая удара. Это была великолепная защита, почти такая же успешная, как если бы я прикрылся газетой. Почему, черт побери, полковник Самюэл Кольт не занялся изобретением каких-нибудь более полезных вещей, например французских булавок?
Очень медленно, очень спокойно я поднял обе руки на высоту плеч ладонями вперед. Вполне возможно, что мой противник — человек нервный, а мне совершенно не хотелось, чтобы он подумал, что у меня есть по отношению к нему какие-то агрессивные намерения. Все это, однако, было ни к чему, поскольку тип, державший револьвер, производил впечатление статуи, лишенной нервов. Впрочем, мне и в голову не приходило сопротивляться: я стоял в дверях каюты и моя фигура слишком уж отчетливо рисовалась на фоне бледно-красного заката. Левая рука моего противника лежала на стояке лампы, и в каждое мгновение он мог, резко развернув ее, ослепить меня. Кроме того, это не я, а он держал в руке кольт. Мне платили за риск, это правда, мне платили даже за то, что временами сам нарывался на неприятности, но мне ничто не плати за то, чтобы я играл роль законченного идиота с суицидными наклонностями. Так что я поднял руки еще на пару сантиметров и постарался придать своему лицу выражение крайней миролюбивости и добродушия, что, впрочем, не было слишком трудным при моем душевном состоянии.
Никакой реакции от моего противника не последовало. Теперь я даже видел, как мерцают его белые зубы. Блестящие глаза продолжали смотреть на меня не мигая. Эта улыбка, эта слегка склоненная голова, эта небрежная поза… Тесная каюта излучала угрозу с такой интенсивностью, что ее, казалось, можно потрогать руками. Неподвижность, бесшумность и хладнокровное безразличие ко всему человека с кольтом несли в себе что-то зловещее, ужасающе ненатуральное и столь же опасное. Я буквально чувствовал, как тянется ко мне в этой крохотной каюте ледяной палец смерти. Несмотря на двух моих прадедов-шотландцев, я, к великому сожалению, не обладаю их даром ясновидения и на все парапсихологические импульсы реагирую с чуткостью оловянной болванки. Но здесь я отчетливо ощущал запах смерти.
— Похоже мы оба совершаем ошибку, — осторожно начал я. — И вы и я. Особенно вы. Возможно, мы делаем одно дело…
Слова с трудом протискивались сквозь мое горло, а пересохший язык не способствовал ясности речи, и тем не менее тон ее казался мне именно таким, какого я и хотел, тихий, монотонный, успокоительный. Нельзя было исключить, что револьвер лежал в руке безумца… Умилостивить его… делать что-нибудь… все равно что, лишь бы остаться в живых!
Я кивнул сторону табурета, стоявшего в углу у стола.
— У меня сегодня был тяжкий день. Не будете ли вы возражать, если я присяду и мы поговорим? Обещаю держать руки поднятыми.
Реакция — нулевая. Белые зубы, блестящие глаза, спокойное пренебрежение ко всему и этот железный кольт в железной руке… Я почувствовал, что мои руки сами сжимаются в кулаки, и поспешно разжал их, но уже не мог подавить волну гнева, закипавшего во мне.
Тем не менее я заставил себя дружелюбно улыбнуться и медленно двинулся к табурету, не спуская глаз с противника. Деланная улыбка до боли сводила мышцы лица. Руки я поднял еще выше. Кольт способен уложить буйвола на расстоянии пятидесяти метров. Что же останется от меня? Я изо всех сил старался думать о чем-нибудь другом, но без особого успеха. У меня ведь, увы, всего две ноги, и я страшно привязан к обеим.
Обе они были еще целы, когда я добрался до табурета, присел на него с высоко по-прежнему поднятыми руками и снова начал дышать. Только теперь я заметил, что уж давно не дышу вообще, что, впрочем, и неудивительно, так как мои мысли были заняты исключительно такими проблемами, как специфические возможности различных пуль, предпочтительность смерти от потери крови прозябанию на костылях, ну и прочими столь же приятными вещами, крайне сильно действующими на воображение.