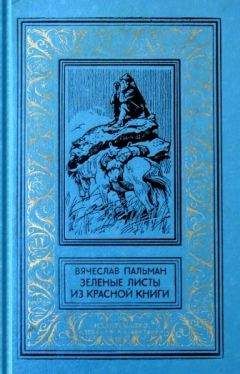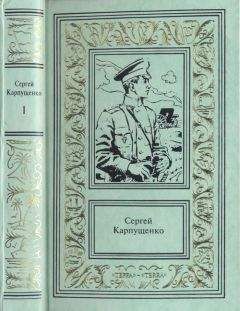Эта в общем-то лунатическая привычка появилась у Вальки недавно. Он выбирался из дома и час-два проводил то на крыше, то на дереве неподалёку от кордона. Великолепно помнил, что с ним было — и не имел ничего против. В конце концов, это его личное дело.
Иногда он подолгу рассматривал свой медальон. И в такие минуты ему казалось, что есть нечто неправильное в смерти Моры. Нет, смерть каждого хорошего человека — неправильна. Но в этом была какая-то особая неправильность. Потом наваждение проходило.
Витька несколько раз спрашивал, что происходит. Он видел, как изменился его друг. И понимал — это неизбежно. Но молчать не мог — а вот Валька как раз отмалчивался со странноватой улыбкой, от которой пропадало желание разговаривать и мороз бежал по коже. И Михал Святославич старался лишний раз не заговаривать с Валькой. Для него всё уже было сказано — и сделать он тоже ничего не мог, потому что слова в данном случае не имели смысла.
Валька всё это понимал. И думал сейчас, что кордон мог бы стать для него домом, как стал домом для Витьки и, похоже, когда-нибудь станет домом для Альки. Но — не судьба… У него не будет дома. И эта мысль казалась не такой уж и страшной, почти обыденной. У него будет дело. И всё-таки де ла Рош был прав. Есть те, чей путь, чей смертельный бег по лезвию меча — одинок.
Он привалился спиной к чердачному окну. И, задрёмывая, подумал, что ему и этого не хочется — а хочется, чтобы всгеда-всегда-всегда была рядом Мора.
Это было его последним сознательным желанием.
* * *
Тёплый ветер гладил щёки. Сухо пахло травяной пылью, стрекотала по сторонам выложенной серо-жёлтым камнем дороги насекомая мелочь. В белом небе размытым пятном пылало солнце.
Валька узнал место. И не удивился, не испугался. Хотя понимал, что это уже не сон. Ну — уже не совсем сон.
— Что ж… — сказал он. Переступил кроссовками по камню. И зашагал — неспешно, прогулочным шагом, ни о чём не думая, даже не глядя по сторонам, где перекатывались плавные волны высокого ковыля.
Он не смог бы сказать, сколько шёл. Наверное, долго. Просто вокруг ничего не менялось. И в этой неизменности было усыпляющее спокойствие, от которого вспомнились строки Макаревича — их любил отец…
— Когда поднимались травы —
Высокие, словно сосны —
Неправый казался правым
И боль становилась сносной…
Вся прошлая жизнь стала стремительно отдаляться — словно Валька не просто шёл по дороге, а и правда уходил от прошлого. И даже самые тяжёлые моменты вспоминались просто с грустью. Несколько раз он садился, отдыхал, глядя в небо. Несколько раз — ему чудились чьи-то шаги и голоса. Но вокруг было пусто.
Солнце перевалило через зенит и стало садиться — всё ближе и ближе к травам. Но Валька знал, как долог летний закат и не торопился устраивать ночлег. Временами он только думал, что надо проснуться — но тут же спрашивал себя: «Зачем? Тут хорошо…» — и шёл дальше.
А когда солнце коснулось нижним краем высоких метёлок и хор в траве зазвучал особенно отчётливо — Валька увидел мальчишку[91].
Он сидел на обочине, обхватив кольцом рук широко расставленные колени и смотрел, как подходит Валька. Наверное, был чуть помладше — но плечистый, загорелый, с выжженными до бронзового цвета тёмно-русыми волосами, сероглазый. Одетый в простую серую рубашку, темные штаны, босиком — не вообще, сапоги — тонкие, шевровые, но пыльные до свинцового цвета — стояли тут же и на них сушились разостланные портянки. И, когда Валька подошёл ближе, то увидел над самыми бровями параллельный им тоненький белый шрам.
— Привет, — сказал Валька, подходя вплотную и садясь на траву. Мальчишка кивнул. Валька с наслаждением сбросил кроссовки, стянул носки и вытянулся на ковыле, глядя в небо.
— Я Сашка, — как ни в чём не бывало, сказал мальчишка.
— Валька, — чуть повернул голову Валька.
— Ты Серёжку не видел? — без особого беспокойства спросил Сашка.
— Кайду? — почему-то спросил Валька. Сашка покачал головой:
— Не… Яшкина. Он младше меня. Светленький такой…
— Не видел, — вздохнул Валька. — А что, потерялся?
— Придёт… — ответил Сашка. — А ты кого ищешь?
— Никого, — ответил Валька. Сашка усмехнулся взрослой улыбкой:
— Так не бывает… Здесь все кого-то ищут или куда-то идут. Или ты идёшь?
— Я ухожу, — просто ответил Валька и сам удивился своему ответу. Но повторил, оценив сказанное: — Я просто ухожу. Устал… Ничего, что я подсел?
— Да ничего, конечно… С войны?
— С войны, — отозвался Валька и снова сам удивился: почему он так сказал? Но и этот ответ был правдой, и он не стал поправляться.
— Ты ведь живой, — не спросил, а уточнил Сашка. Валька кивнул. — Может, зря торопишься? Думаешь, где-то будет лучше?
— Не знаю, — равнодушно ответил Валька. И спохватился: — Я живой, а ты, что, ты?..
— Меня в двадцатом расстреляли, — беспечно ответил Сашка. — Чекисты… А Серёжка в девяносто втором погиб. В Молдавии…
— У одного моего… друга друг — ну, его друг — тоже погиб в Молдавии, — сказал Валька, ничуть не удивившись ответу. А вот Сашка удивился:
— Так у тебя остались друзья? Зачем же ты тогда… О, Серёжка идёт.
Валька невольно повернулся в ту сторону, куда подался улыбнувшийся Сашка. И поймал себя на том, что заулыбался тоже.
По дороге к ним шагал, размахивая рукой, мальчишка лет двенадцати. Худенький, с растрёпанными светлыми волосами, тоже загорелый, в серой майке, шортах и босиком. Сандалии нёс в руке. Мальчишка улыбался.
И почему-то становилось ясно, что он такой же, как его улыбка — открытый и честный.
— Наконец-то, — проворчал Сашка. — Ты где ходишь?
— Не ругайся, Саш, — попросил мальчишка, бросая в траву сандалии и скользнув любопытно-дружелюбным взглядом по Вальке, который так и полулежал — с улыбкой. — Я правда хотел пораньше. Но так такой караван, понимаешь, там сто-о-олько всего! — он округлил и без того большие серые глаза с золотистыми искрами. — Я прямо уйти не мог! — он непринуждённо плюхнулся в траву и задрал ногу на ногу. И продолжал рассуждать: — Там жонглёр один говорит: кто сможет, как я — семь ножей в воздухе чтобы крутились — тому половина выручки. Тогда я говорю: я попробую…
— Ну и ты, конечно… — Сашка покачал головой.
— Ну и я конечно! А чего он так говорит, как будто один на всех Гранях всё умеет? Говорю: «Вы давайте мне их по одному кидайте, а я буду подхватывать и жонглировать…» — Серёжка задумался и добавил: — Он платить не хотел. Говорил, что я мало жонглировал. Ну, по времени.