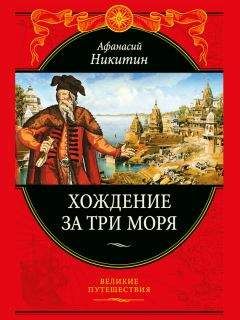А в это время его недавняя собеседница, натянув на себя теплый кожух, осторожно выглянула из калитки и, увидев, что он уходит, быстро засеменила к дому Алматова. Она хоть и была зла на своего непутевого племянника, но после ухода гостя зашевелился в ее голове червь сомнения. И она, ругая себя за свою болтливость, бросилась к Алматову.
Алматов был дома. Они сидели вместе с Клавдиным за столом и распивали уже не первую бутылку. Старуха, запыхавшись от быстрой ходьбы, рассказала о человеке, который только что был у нее. Клавдин побледнел и, испуганно глядя на Алматова, спросил:
— Как думаешь, кто это мог быть?
— Лягавый! Если бы работник домоуправления, то наверняка пришел бы сюда.
— Что делать будем?
— Пить, — односложно ответил Алматов и, взяв в руку бутылку, спросил у тетки: — Тетка Маня, налить?
— Некогда мне, дом остался незакрытым, а воров сейчас вон сколько развелось.
— А ты не боись, — пьяно ухмыльнулся Клавдин, — сейчас все ворье пьет, — он протянул старухе полстакана водки, — на, бабка, выпей, сразу на душе веселее станет.
Старуха махнула рукой и, словно оправдываясь, сказала:
— А, выпью, вам меньше останется! — И она по-мужски, опрокинув стакан, выпила до дна, взяла со стола кусочек хлеба и, поблагодарив, ушла.
Алматов взглянул на Клавдина:
— Что, сдрейфил? Не трусь, к тебе сейчас и комар носа не подточит. Если и придерутся, то только за то, что ты не прописался и не работаешь. В крайнем случае, скажешь, что ездил в разные города, но где остановиться, так и не решил, а теперь приехал в Минск, будешь прописываться и устраиваться здесь. Давай, Жора, выпьем.
Жора не спорил, и они снова опорожнили свои стаканы. Клавдин встал и пошел в соседнюю комнату. Там отодвинул от стены кровать, достал из-под нее небольшой сверток и вышел к Алматову:
— Здесь у меня кое-какие ксивы, которые могут пригодиться, жаль уничтожать, может, спрячем где-нибудь?
Алматов задумчиво пошарил глазами по комнате.
— Где же их спрятать? Если придут шмон делать, то в хате могут найти.
— Нет, здесь хранить нельзя. Давай в сарай спрячем.
Они тут же вышли во двор. Там у забора стоял большой бревенчатый сарай. Дружки направились к нему.
Алматов открыл дверь, и они скрылись внутри. Никто из них не обратил внимания на проходившего по другой стороне улицы мужчину. Это был Дроздович.
Он, уходя от старухи, сам не зная почему, обернулся и увидел, что она торопливо направлялась к дому Алматова. Дроздович насторожился. Он быстро перешел на другую сторону улицы и начал наблюдать за домом Алматова.
Скоро из калитки вышла старуха и быстрым шагом засеменила к своему дому. Прошло еще около десяти минут, и Дроздович увидел двух мужчин. Они вышли из дома и по узкой тропинке подошли к сараю. «Наверняка что-то прячут там! Значит, старуха что-то заподозрила и предупредила их. Вот ведьма!»
Дроздович не сомневался в том, что во дворе он видел Алматова и Клавдина, поэтому поспешил в райотдел.
Славин был на месте. Когда в кабинет вошел начальник уголовного розыска, он разговаривал с начальником следственного отделения. Славин кивнул Дроздовичу головой:
— Садись, тебе тоже полезно послушать. Помнишь Рыбакова?
— Это который вместе с Эпштейном воровал? Он арестован, я с ним неделю назад в следственном изоляторе разговаривал. Он еще о многом умалчивает. А в чем дело, Владимир Михайлович?
— Да вот, — Славин кивнул в сторону начальника следственного отделения, — Ковчин только что приехал из его квартиры. Мать Рыбакова заявила, что ее обворовали.
— Вот это да! — удивленно протянул Дроздович. — Вора обворовали. И что же украли?
— Хрусталь, золото, шубу женскую, вот список.
Дроздович начал читать перечень похищенных ценностей. Славин выслушал доклад Ковчина и решительно хлопнул ладонью по столу:
— Хорошо, сделаем так: доставьте из следственного изолятора ко мне Рыбакова и Эпштейна.
Ковчин вышел. Дроздович рассказал Славину обо всем, что ему удалось узнать, Славин принял решение:
— Сделаем так: создавай специальную группу и занимайся только Клавдиным. Я уверен, что грабежи — дело его рук. Но брать его надо только с поличным. Тогда маска и нож, которые будут при нем, и опознание водителя такси припрут его к стенке и не оставят ему никаких шансов...
Время шло быстро. Только успел Славин побеседовать с Подрезовым, который доложил ему о ходе работы по делу об убийстве Купрейчика, как в отдел привезли арестованных. Первым в кабинет Славина привели Эпштейна. Наголо остриженный, крепкий, черноглазый, он нерешительно остановился у дверей. Голова опущена, а из-подо лба быстрый, как молния, взгляд. Руки беспокойно мнут зимнюю шапку. Славин указал ему на стул и предложил садиться. Парень тихо сказал «спасибо» и присел на краешек.
— Ну как, освоился в новых условиях?
— Освоился, чего уж там.
— А ум пришел в голову?
— Теперь да. Жаль, что поздно.
— Если действительно возьмешься за ум, то не будет поздно. У тебя еще вся жизнь впереди. Тебе сколько лет?
— Семнадцать.
— Вот видишь. Правда, не с того ты свою жизнь начинаешь, но поправить положение еще можно, стоит только захотеть.
Парень неожиданно заплакал. Он по-детски размазывал рукой слезы по лицу и, не стесняясь их, заикаясь, проговорил:
— Я сейчас, честное слово, все понял. Больше такого никогда не повторится! Вот увидите, никогда!
Славин смотрел на плачущего парня и с горечью думал: «Просмотрели мальца! А ведь совесть-то у него есть. Надо будет разобраться с инспекторами детской комнаты, как они работали с ним?» Тихо спросил:
— Боря, ты о всех своих преступлениях рассказал?
Эпштейн посмотрел прямо в глаза Славину и отрицательно помотал головой:
— Нет, я еще о двух кражах не рассказал.
— О каких?
— Мы обворовали одну квартиру по улице Якуба Коласа, а другую — по Деревообделочной.
— Номера домов не помнишь?
— Нет, но я смогу найти эти дома.
Майор из материалов уголовного дела помнил: мать Рыбакова знала, что ее сын занимается воровством, причем, как сказали соседи, она принимала от сына некоторые похищенные вещи. Но и Рыбакова, и ее сын, и Эпштейн категорически отрицали это.
Славин видел, что время, проведенное сидящим напротив парнем в следственном изоляторе, не прошло для него даром. Слезы, которые были на его глазах, пришли на смену показному бахвальству и браваде.
— Боря, скажи, а мать Кости знала, что вы воруете?
Эпштейн опустил голову, кивнул:
— Конечно, знала. Она же у нас много чего для себя брала.