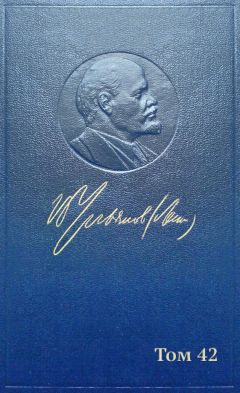— Что верно, то верно, — согласился Сковородников. Кивнул: — Я очень благодарен графине Анри, что она рекомендовала мне вас в качестве своего друга.
Долинский поднялся:
— Мне хотелось что-нибудь сделать для вас, профессор.
— Благодарствую, батенька... Коли сможете, достаньте хотя бы пачку «Кэпстэна»[3].
— Буду счастлив... Но у меня есть разумное, перспективное предложение. Я предлагаю вам, Михаил Михайлович, вашей супруге Агафене Егоровне, не дожидаясь, пока большевики прижмут нас к границам меньшевистской Грузии, уйти вместе со мной в Константинополь.
— Уйти?
— На фелюге.
— Увольте, Валерий Казимирович. Увольте... Чужеземные страны даже в молодости на меня навевали скуку... Если говорить откровенно: не вижу смысла в вашей затее. A navire brisé tous vents sont contraires.[4]
Долинский не то чтобы не посмел возразить, а просто не нашелся. Поклонившись, несколько церемонно сказал:
— Я пришлю табак сегодня же вечером.
— Благодарен вам буду, батенька... Трубка — моя слабость.
На крыльце с почерневшими дубовыми перилами яркий солнечный свет резанул Долинского по глазам. И он на секунду зажмурился, а борода его вновь запылала, как факел. Ступеньки были только что вымыты, еще влажные, от них хорошо пахло пресной водой, а мокрая тряпка лежала в самом низу. И о нее следовало вытирать ноги тем, кто заходил в дом.
Валерий Казимирович переступил через тряпку. На ухоженной дорожке, что тянулась от крыльца до калитки, он увидел Агафену Егоровну. Супруга профессора по-прежнему была в лубочном сарафане и яркой косынке. Казалось, она поджидала Долинского.
С улыбкой, просительно Агафена Егоровна сказала:
— Валерий Казимирович, мне бы только два слова.
— Я готов слушать вас целый день, — любезно ответил Долинский, внезапно подумав, что в лице этой простой и, видимо, недалекой женщины он может обрести союзника. — Чем могу служить, Агафена Егоровна?
— Валерий Казимирович, сударь мой, люди мы пожилые, немолодые. А времена нынче лихие...
— Неспокойные времена, справедливо замечено.
— Я об этом и говорю. На веку, как на долгой ниве, всего понасмотришься. Но вот такого беспорядка отродясь видать не приходилось. Слыхали, третьего дня господа офицеры пили — пили за победу русского оружия. Опосля дом подожгли, а сами в непотребном виде пошли купаться на море.
— Вода-то еще холодная, — невпопад заметил Долинский.
— Страсть холодная, — согласилась Агафена Егоровна. И безо всякого перехода сказала: — Я о чем хочу вас попросить... Прислали бы вы нам для охраны пару солдатиков. Если, конечно, можно.
— Попробую.
— Спасибо! Не за себя ратую и не за Михаила Михайловича... Коллекция при нас. Большой ценности. Пропадет если — беда.
Утратил вес Долинский. Утратил от радости, от неожиданности. Кажется, оттолкнись он сейчас ногами — и, словно пушинка одуванчика, полетит над этим цветущим садом, над береговой галькой, блестящей от наката, над морем, раскинувшимся и вправо, и влево, и до самого горизонта.
— Хранится коллекция в надежном месте?
— Бог ее знает. Михаил Михайлович не сказывает.
— Я что-нибудь сделаю для вас, Агафена Егоровна. Можете положиться на меня.
8. Туапсе (продолжение записок Кравца)
Поезд, вздрагивая на стыках, медленно и лениво втягивался на запасный путь. Землистые от грязи, с облущенной краской, вагоны других эшелонов стояли в несколько рядов, загромождая все видимое пространство. Они стояли без паровозов, наверное, давно. И солдаты, и офицеры готовили на кострах варево, лазили под вагонами. Играли в карты, спорили...
Я понял, что товарищ Каиров поступил правильно, нарядив меня в офицерскую форму. Мне будет нетрудно затеряться в этой безликой солдатской массе.
Когда поезд остановился, я прыгнул из тамбура. Пролез под соседним вагоном. И неожиданно оказался перед группой офицеров. К счастью, они вели громкий разговор и не обратили на меня внимания. Полный, обрюзгший полковник, задыхаясь, выкрикивал:
— Батеньки! Посмотрите по сторонам. Нас погубили вот эти эшелоны. Огурцы, сукно, пшеница. Хватай, бери! Довольтвие местными средствами превратилось в грабеж! Боже мой! Тылы обслуживает огромное число чинов, утративших элементарное представление о солдатской и офицерской чести. Да-да, господа!
Я опять нырнул под вагон...
Наконец, когда железнодорожные пути и бесчисленные эшелоны оказались за моей спиной, я увидел перед собой маленький город, окруженный горами. Сады и деревянные домики на склонах точно гнезда.
Навстречу мне шла пожилая дама, лицо под черной вуалью.
— Извините, сударыня, вы не подскажете, где здесь улица Святославская?
— Это на Пауке.
— Как? — не понял я.
— Приморская часть города, сударь, называется в Туапсе Пауком.
— Мне следует идти к морю?
— Вам лучше подняться на Майкопскую дорогу. Это сюда. — Дама указала рукой на изломанную, уходящую в гору тропинку. — Потом выйдите на Абазинский проспект. У типографии Гаджибекова сверните направо. И пройдите по Полтавской улице. А еще лучше вам добраться до набережной. Там по Ольшевской мимо больницы акционерного общества вы пройдете на Паук.
— Премного благодарен.
Земля крошилась под сапогами, шурша, сползала вниз. Короткая трава по краям тропинки утратила свежесть, окрасилась в пепельно-бурый цвет, так непохожий на яркую зелень, буйствующую на склоне горы.
Майкопская дорога отличалась непривлекательностью и засохшей грязью, точно невымытые галоши. Сверху на нее наседали дворы. Дружные кавказские дожди размывали их. Тащили на дорогу землю и камни. Если земля, подхваченная ручьями, большей частью уносилась дальше вниз, к железнодорожным путям, то камни оседали на дороге, нагромождаясь один на другой, портили и без того сносившееся покрытие.
Нижний чин вел солдат. Они шли вразброд, без лихости строевой выправки. На меня не обратили внимания, словно я был в шапке-невидимке. С дисциплинкой у них нелады. Это показалось мне хорошим предзнаменованием. Я спокойно пошел дальше.
Люди попадались редко. И у меня сложилось впечатление, что Туапсе совсем безлюдный городишко.
Однако я ошибся...
По дороге я пришел в центр города на Абазинский проспект, где вдоль засаженного кленами бульвара теснились лавки, кабаки, магазины, просто деревянные домики без всяких вывесок. Бульвар был переполнен народом. Штатским, военным. В суете и гомоне, царящих вокруг, чувствовалась нервозность, обеспокоенность. Лица у людей были озабоченные, недовольные.