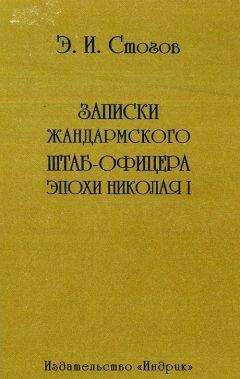XII
Вдруг среди бела дня или глубокой ночью немцы совершали огневые налеты на наш передний край, обрывая их так же неожиданно, как и начиная. Было похоже, что у них сдают нервы. Впрочем, мнения об этом высказывались разные.
— Немцы-то какие шалые, — говорил Веселков, прислушиваясь к разрывам снарядов. — Психуют!
— Это они перед отходом, — замечал Макаров. — Они всегда перед отступлением бьют напропалую изо всего оружия, чтобы лишние боеприпасы не везти.
Однако мне казалось, что эти неожиданные артналеты значили нечто иное, не похожее ни на нервозность, о которой говорил Веселков, ни на подготовку к отступлению, на которую надеялся простодушный Макаров. Почему они обстреливают только наше расположение и не трогают соседей? Почему у них на моем участке прибавилось артиллерии, минометов? Откуда они их взяли? Для чего?
Макаров однажды сказал:
— А не попал ли к ним в руки наш Лопатин? Что-то они очень уж точно пристрелялись по нам.
— Чепуха какая, — возразил я. — Как он мог туда попасть?
— Очень просто: перебежал и все.
— Нет, нет, — махнул я рукой. — Как можно думать о людях всякие гнусности. Мне даже слышать-то об этом не хочется.
— А Куприянов все-таки стрелял в кого-то, — настаивал на своем Макаров.
— Ну и что же? Откуда ты знаешь, один ли он стрелял? А я вот думаю, что они вдвоем стреляли. А может быть, это даже сам Лопатин стрелял, когда Куприянова убило. Нам ведь ничего неизвестно.
— Неизвестно-то неизвестно-, а я чего-то не верю в это дело.
Начальник штаба батальона предупреждал меня:
— Смотри внимательнее, это неспроста.
Я и сам чувствовал, что это неспроста, и принял все меры к тому, чтобы оградить себя от возможных неожиданностей.
Усилили наблюдение за противником, ночью все были в боевой готовности. Командование тоже, вероятно, было обеспокоено поведением немцев, так как однажды ночью ко мне пришел артиллерийский офицер, старший лейтенант, командир батареи дивизионных пушек, и сказал, что по приказанию командира дивизии послан к нам впредь до особых распоряжений. Кроме того, командиру их дивизиона приказано при первом же моем требовании ввести в бой еще и батарею гаубиц-пушек, стоявшую на участке правого соседа. Офицер привел с собою двух сержантов-разведчиков и радиста. Разведчиков мы послали к Лемешко и к Сомову, а радиста поселили к связистам, где стояла и наша рация.
В ту же ночь позвонил командир дивизии и сказал:
— Помнишь о нашем разговоре?
— Помню.
— Так вот еще раз напоминаю: за овраги, если упустишь, я с тебя шкуру сниму. — Понял?
— Понял, — вздохнул я.
Он засмеялся, спросил:
— Артиллерист пришел?
— Пришел.
— Налеты не прекратились?
— Нет.
— Будь внимателен. Не иначе, как эти хитрые егеря тебя к чему-то приучить хотят. А ты не привыкай. Понял?
— Понял.
— Ну, смотри! — И он повесил трубку.
Ночь… На КП становится все тише и тише.
Вот, наигравшись до одури в домино, укладываются спать Веселков и Никита Петрович. Макаров уходит к Лемешко. Там он пробудет до утра. Иван Пономаренко, подбросив в печку последнюю охапку сучьев, тоже лезет на нары. Остаемся бодрствовать только мы с Шубным. Я полулежу на своей постели, сооруженной возле стола. Шубцый сидит напротив и рассказывает о своей гражданской жизни, то и дело прерываясь, чтобы проверить связь, узнать, как идут дела во взводах.
— Работаю я в Ростове монтером, прогуливаюсь как-то вечером по набережной, гляжу — сидит на скамейке барышня и семечки лущит… Я «Орел», я «Орел». Здесь, — вдруг кричит он в трубку.
Это из штаба батальона запрашивают обстановку. Докладываю.
Просыпается Халдей. Спит Никита Петрович беспокойно, ворочается, стонет, взмахивает руками и за ночь раз пять просыпается. Вскочит как угорелый, сядет на нарах, поджав под себя ноги по-турецки, и начнет поспешно крутить длиннющую цыгарку. Закурив, снова ложится, тут же, как проваливаясь в бездну, засыпает, а цыгарка падает на пол. Шубный, внимательно наблюдающий за ним, подбирает ее и, затушив, ссыпает табак в металлическую банку. Сам Шубный не курит, махорку свою отдает товарищам, а из табака Никиты Петровича создает НЗ. Когда у нас не хватает табака, мы все пользуемся этими запасами, но так как больше всех курит сам Халдей, то этот табак в основном переходит к нему. Никто, кроме меня, не знает, откуда у Шубного берется табак, не знает и Никита Петрович и всякий раз трогательно благодарит солдата, даже пытается расплатиться с ним деньгами, от которых Шубный благородно отказывается.
Незаметно наступает рассвет. Если глядеть в окошко, видно, как оно сперва голубеет, потом становится все светлее и светлее. Вот уже свет проникает в блиндаж, сперва робко, коснувшись лишь края стола, потом растекается всюду, даже по углам, начинает бороться с желтым пламенем лампы, скоро лампа уже горит, ничего не освещая, и Шубный, погасив, убирает ее под стол.
Выхожу из блиндажа. В овраге сыро. Даже шинель на часовом влажная. На переднем крае стихает перестрелка. Тоненько тинькнула птица и смолкла. Потом тинькнула еще, смелее. В кустах слышится треск. Кто-то лезет напрямик, медведем. Это Макаров. Улыбается:
— С добрым утром!
Часовой, казах Мамырканов из артиллерийских повозочных, маленький, кряжистый, хитроватый солдат, приветливо улыбается Макарову. Ватник на Макарове весь обсыпан росой с веток.
Макаров вваливается в блиндаж, сбрасывает с себя ватник и, растолкав Веселкова, забирается на нары. Веселков, зевая и потягиваясь, поднимается и тут же начинает тихонько напевать:
Да эх, Семеновна
С горы катилася,
Да юбка в клеточку
Заворотилася.
— Да-ра-ра-ра-ла-ла… — Он выходит, голый по пояс, из блиндажа с ведром воды в руках, дает Мамырканову:
— На-ка, полей.
Мамырканов ставит винтовку в угол и выливает воду на голову своего комбата.
— Хороших я тебе, капитан, часовых выделил? — спрашивает Веселков, вытираясь полотенцем. — Чудо, а не часовой. Так, Мамырканов?
— Так, — совершенно серьезно соглашается тот.
Скоро выясняется, что за чудо охраняет наш командный пункт. Выяснение это происходит не совсем обычным образом и с превеликим позором для всех нас.
Началось с того, что Мамырканов почему-то начал часто с тревогой заглядывать в дверь. По его испуганному лицу видно, что он хочет что-то сказать, но не решается.
— В чем дело, Мамырканов? — спрашиваю я.
— Так, — печально говорит он.
— А почему вы все в дверь заглядываете?
Он молчит.