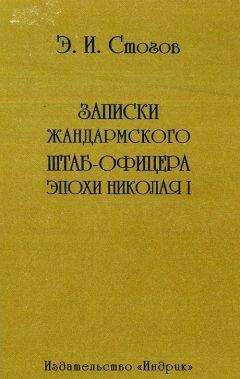Началось с того, что Мамырканов почему-то начал часто с тревогой заглядывать в дверь. По его испуганному лицу видно, что он хочет что-то сказать, но не решается.
— В чем дело, Мамырканов? — спрашиваю я.
— Так, — печально говорит он.
— А почему вы все в дверь заглядываете?
Он молчит.
— Ну, входите, — говорю я. — В чем дело?
— Меня не надо в разведку посылать, — просительно говорит он, склонив голову набок.
Эта просьба очень заинтересовывает нас. Почему он ни с того ни с сего заговорил о разведке?
— Отчего же Это тебя не надо в разведку посылать, а других надо? — спрашивает Веселков, вычерчивающий планшет… — Нужно будет, и пошлем.
— У меня дети, трое, — еще печальнее говорит Мамырканов.
— Эко, брат, причину какую нашел — дети. Тут у всех дети! — возражает Веселков. — А если нет у кого, так потом будут. Это уж как пить дать.
Мамырканов некоторое время молчит. Видно, доводы его даже ему самому кажутся не очень убедительными. Потоптавшись в нерешительности, он вдруг тихо, с мольбою произносит:
— Я совсем пропаду в разведке. Ноги больные, ревматизм, трещат, — немец услышит, что тогда будет?
— Ни черта он не услышит! — отмахивается Веселков. — А ну-ка, покажи, как они у тебя трещат.
Мамырканов приседает, но никакого треска мы не слышим.
Он смущенно глядит на ноги:
— Что такое?
— Ладно, иди, — говорит Веселков.
Мамырканов покорно выходит из блиндажа, прикрыв за собою дверь.
— Кто его так напугал разведкой? — спрашиваю я.
— А черт его знает! — говорит Веселков. — Наверно; Иван.
Я смотрю на Ивана Пономаренко, который давится смехом в дальнем углу блиндажа.
— Ты?
— Та я ж, ну его, — простодушно признается он, вытирая слезы на глазах.
— Для чего это тебе понадобилось?
— Та вин боится разведки, як тот… як его… чертяка ладана. Я с ним побалакав трохи, а вин, дывысь ты… Як вин казав? Ноги трещать, о!
В это время дверь снова открывается. Мамырканов просовывает голову и озабоченно сообщает:
— А я из винтовки стрелять не умею.
— Как не умеешь? — вскакивает Веселков. — А ну! — и быстро выходит из блиндажа.
Идем и мы все за ним следом, очень заинтересованные таким открытием.
— Стреляй, — приказывает Веселков.
— Куда? — покорно спрашивает Мамырканов.
— В небо. Ну!
Мамырканов прикладывает винтовку к животу, нажимает двумя пальцами на спусковой крючок, грохает выстрел, и… Мамырканов сидит на земле, растерянно оглядываясь:
— Толкается.
Наступает неловкое молчание.
«И этот солдат, — думаю я, — стоит на посту возле командного пункта роты!»
— Ты видал такого? — спрашивает у меня Веселков. — Откуда он такой взялся на нашу голову?
Я сердито смотрю на него. Впрочем, Веселков не виноват. Мамырканов прибыл к нам с пополнением, когда мы были на марше. По профессии он чабан, пас колхозные отары, мобилизовали его уже во время войны и направили в строительный батальон. Там ему вручили лопату, кирку, топор, и Мамырканов начал строить в тылу мосты, гати, чинить разбитые бомбами, снарядами, колесами автомобилей, гусеницами тягачей и танков дороги. Дуло карабина, который был вручен ему вместе с лопатой и киркой, он обернул, по примеру других, тряпочкой, в тряпочку же завернул и патроны в подсумке. Стрелять ему было некогда да и не в кого. Но вот однажды, во время налета фашистской авиации, Мамырканов был ранен, попал в госпиталь, откуда и прибыл к нам вместе с бывалыми солдатами. Он тоже выглядел «бывалым» — имел ленточку за ранение. Веселков тут же зачислил его ездовым и назначил часовым на КП. Я знал, что в охрану командного пункта офицеры обычно стараются выделить тех солдат, которые подходят к поговорке: «На тебе, боже, что нам не гоже», но чтобы до такой степени было не гоже!.. Кто бы мог подумать, что Мамырканов даже не умеет стрелять!
Меняем часового, вызываем из первого взвода сержанта Рытова — стройного, смуглого, чернобрового двадцатилетнего парня, прекрасного пулеметчика.
— Рытов, — говорю я, — научите Мамырканова. Он даже стрелять не умеет.
— Есть научить, — отзывается он. — Разрешите взять во взвод?
— Берите.
— Пошли, — обращается он к Мамырканову; кивнув на дверь, и, круто повернувшись, щелкнув каблуками, выходит из блиндажа.
На следующий день Макаров принимает у Мамырканова зачеты по материальной части оружия и по стрельбе в цель. Докладывает:
— Оружие знает хорошо, стреляет посредственно.
Мамырканов снова занимает свой пост возле КП.
— Ну, вот, — говорю я ему. — Теперь и в разведку можно идти.
Он печально, через силу улыбается в ответ, и я понимаю — Мамырканову никак не хочется в разведку.
— А я гранаты не умею бросать, — сообщает он.
— Иван, — говорю я. — Ну-ка, научи Мамырканова гранаты бросать.
— Есть. Какие прикажете?
— Все: РГД, Ф-1, противотанковые. Все.
Иван рассовывает гранаты по карманам и уводит с собою перепуганного Мамырканова. Скоро в дальнем конце оврага раздаются взрывы гранат. Вернувшись, Иван докладывает:
— Рядовой Мамыркан изучив уси гранаты и готов идти в разведку.
Мамырканов стоит тут же и — как мне кажется — уже придумывает новую отговорку. Я с любопытством смотрю на него: что еще не умеет он делать?
— По-пластунски ползать не умею, — сообщает юн час спустя, заглянув в дверь.
Довольно основательная причина, чтобы не идти в разведку. Но уметь ползать по-пластунски полезно каждому солдату. Поэтому я без особых душевных содроганий наблюдаю такую картину: посреди оврага ходит сержант Фесенко, а возле него, пыхтя, ползает Мамырканов. Он норовит передвигаться на коленках, но Фесенко неумолимо требует своего: ползти по земле, распластавшись на ней всем телом, и Мамырканов постигает эту сложную науку.
Рядом со мною стоит Иван Пономаренко и комментирует каждое движение Мамырканова:
— От же гарный разведчик получается с тебя. Ползаешь як тот… як его… краба.
Иван Пономаренко — личность примечательная. Родом он «из-под Балаклеи» — чудесного украинского городка, славящегося своими вишневыми садами. Иван высок ростом, ладно, прочно скроен, имеет крупные, красивые черты лица, широкие черные брови, мягкий, добродушно-лирический характер. Он мой ровесник, однако относится ко мне с некоторым заботливым снисхождением, как старший брат. Вероятно, это потому, что он на голову выше меня и раза в три сильнее.
Иван весел, общителен, и как-то так получилось, что все у нас, полюбив его, стали звать лишь по имени. Фамилия его не то, чтобы забылась совсем, а просто лишней оказалась в обращении с ним. И однажды Иван воспользовался этим.