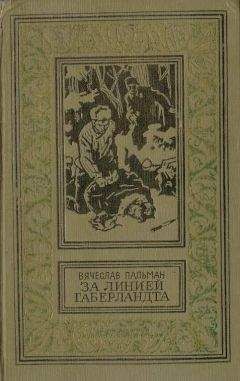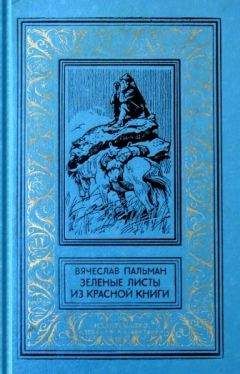В теплый августовский вечер, покончив свои дела, шли мы с Зубрилиным по улице, подымаясь к парку, откуда открывался чудесный вид на бухту, полуостров Старицкого и ближние сопки побережья.
Окна в домах были открыты, откуда-то слышалась музыка и детские возгласы, в бухте деловито посвистывали катера. Город отдыхал.
Когда мы проходили мимо большого дома, наполненного гомоном молодых голосов, Виктор Николаевич сказал:
— Горный техникум. Общежитие. Сейчас у них приемные экзамены.
Из окна первого этажа послышался очень знакомый голос. Я схватил Зубрилина за руку.
— Подожди, полковник...
Мы остановились. Чертовски знакомый голос! И мотив тоже знакомый: «Любимый город может спа-ать спокойно...» Вытянув шею, я заглянул в окно. Сердце застучало от радости. За маленьким столиком сидел рыжеголовый Саша Северин и пел свою любимую строчку. А напротив него склонился, как согнутая жердь, Василий Смыслов; его длинный нос, острый подбородок, брови, глаза — вся напряженная фигура выражала огромную работу мысли. На столике стояли шахматы. Смыслов играл! Он вдруг выпрямился, глаза его торжествующе уставились на Сашу Северина.
— Мат, Сашка! — пробасил он и засмеялся. — Пропел свою партию, рыжий Карузо!
— Ребята! — негромко сказал я.
Они разом оглянулись на окно. Дробно посыпались фигуры. Саша Северин выпрыгнул первым, Смыслов, громыхая стульями, протиснулся к подоконнику и буквально перешагнул через него.
Когда смолкли радостные выкрики, я спросил Васю:
— Научился все-таки?
— Стыдно, понимаешь, с таким именем-фамилией — и не играть. Теперь хочу до мастера дойти. Или, в крайнем случае, чтобы разряд.
— А ты, Саша, так и не осилил больше одной строчки?
— Нет, почему же. Знаю еще одну.
И он запел, краснея: «И видеть сны, и зеленеть среди весны...»
— Теперь уже можно, — сказал Саша и рассмеялся. Он имел в виду переломный год войны, когда наши войска погнали оккупантов прочь с советской земли. Он не забыл справедливого удара Сереги Иванова.
— Чего вы здесь?
— Сдаем экзамены. В сущности, уже сдали. Студенты, можно поздравить нас.
— А Серега? Он не с вами?
— Хватай выше! Руководитель комплексной партии. Теперь уже не по совхозам, а насчет составления карт. В глобальном масштабе, как говорится. Я его видел месяца три назад на колымской переправе. Пополнел, посерьезнел, фетровые валенки надел. Говорит, новую карту мира снимать будет. Геодезист высшего класса, первопроходчик.
— Не женился, Саша? — спросил Зубрилин.
— Что вы! — Он покраснел, потом засмеялся: — Скала!..
Все вместе мы пошли по улице вверх и остановились на водоразделе. Отсюда были видны и город и бухта.
Солнце опустилось, вода в бухте потемнела, и только от устья, за которым нестерпимо ярко блестела гладь Охотского моря, через всю бухту к нам тянулась розовая дорожка света, как рябью покрытая мелкими волнами наката. Она дрожала, постепенно тускнела и скоро совсем потухла. Над овальным зеркалом бухты возник нежный сизый туман.
Город тоже окутался вечерней дымкой. Его улицы уходили вниз, к реке. Смутно белели высокие дома, дымили трубы над крышами, через мост и дальше к сопкам бежали по белому шоссе темные силуэты машин. Небо на Севере было затянуто темными облаками. Где-то там, за тремя перевалами, жил Зотов с семьей, а еще дальше трудился наш деловитый и умный Серега. Рассеялись ребята по большой земле.
Зажгли свет. Ряд широких окон вспыхнул в школе; здание ее возвышалось почти рядом с нами за большим и чистым двором. Во дворе, бросая на окна тень, стояла огромная лиственница. Это была та самая лиственница... Она чудом осталась жива среди каменных громадин и асфальта.
— Ну, а ты как? — спросил меня Саша. — Начальство? Тебе хоть позвонить-то можно? Или связи с твоимсовхозом по-прежнему нет?
Зубрилин живо сказал:
— Звони, звони. Связь у него в совхозе работает отлично. Там есть одна толковая связистка. Да ты слышал о ней...
И все засмеялись.
КОНЕЦ.Лючи — русский.
Балдымакта — новорожденная, маленькая.
Эскери — бог.