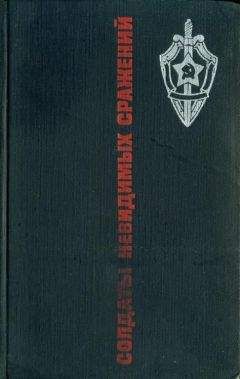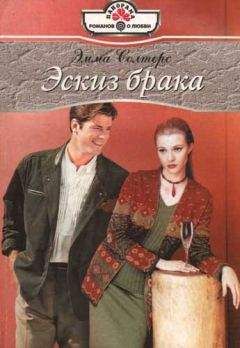— …Когда же этот гад сказал, что чекиста можно купить, я хотел его тут же прихлопнуть, — признался он, заканчивая свой рассказ.
— А вы, — слегка усмехнулся Дзержинский, — ждали, что он начнет превозносить заслуги ВЧК и восторгаться нами? И знаете, кого вы обрадовали? Прежде всего врага. Значит, не так уж сильны чекисты, если поступают подобным образом.
— Феликс Эдмундович! Он же контра. Стоит ли с ним антимонию разводить?
— Да, он из породы шакалов. Но и враги, и друзья должны знать, что ВЧК рождена Октябрем. Это — закон. Это — правый пролетарский суд. Мы не царская охранка. Ни в мире врагов, ни в мире друзей мы не можем, не имеем права компрометировать себя.
Орленко потупил глаза.
— И еще. Посудите сами. Сегодня вы ударили диверсанта. А завтра? Вы убеждены, что не ударите под горячую руку невиновного человека? Идите и подумайте об этом.
Вслед за Орленко к Дзержинскому вошел Михайлов — опытный чекист, старый революционер, товарищ Дзержинского по сибирской ссылке. Орленко был подчиненным Михайлова.
— Что нового на заставе Соболя?
— Пока спокойно, Феликс Эдмундович.
— Соболь поправился?
— Еще лежит. Но рвется в строй.
— Заставе надо помочь, — озабоченно сказал Дзержинский.
— Кое-что уже сделали. — Михайлов перелистал свой блокнот. — Подбросили патронов, продуктов…
— Хорошо, — удовлетворенно сказал Дзержинский. — А что будем делать с Орленко?
Михайлов молчал.
— Что, трудная задача?
— Трудная, Феликс Эдмундович.
— И неразрешимая?
Михайлов пожал плечами.
— Человек он честный, — убежденно сказал Михайлов. — И безусловно, преданный нашему делу.
— Значит, оправдать?
— Вообще-то, — начал было Михайлов, но Дзержинский не дал ему договорить:
— Будем судить!
— Судить? — удивленно переспросил Михайлов.
Морщинистые щеки его раскраснелись, и на них явственно выступили отметинки оспы.
— За Орленко я тоже ручаюсь, — уже спокойнее продолжал Дзержинский. — Думаешь, мне он не дорог? Но ради чистоты нашего общего дела надо судить. Эту болезнь нужно лечить в зародыше, чтобы не перекинулась дальше. — Дзержинский замолчал, потом добавил: — Да что я тебя убеждаю? Ты же и сам так думаешь. Верно?
— Верно, — негромко ответил Михайлов.
Оставшись один, Дзержинский долго ходил по кабинету, размышлял. А вечером зашел к Орленко. Тот сидел мрачный. Не ожидая вопросов, заговорил:
— Все продумал, Феликс Эдмундович. Погорячился, конечно…
— Вести следствие поручено другому следователю, — медленно и раздельно, стараясь пересилить в своем голосе участливые нотки, сказал Дзержинский. — А вас я решил посадить под арест. На пять суток с исполнением служебных обязанностей. А потом предать товарищескому суду.
— Феликс Эдмундович, как же это? Да я всю жизнь за Советскую власть…
— И знаете что, Орленко? — не отвечая на вопрос, добавил Дзержинский. — Обвинителем на этом суде буду выступать я. — Он тяжело поднялся со стула и заходил по кабинету.
Орленко, не отрываясь, смотрел на его слегка сгорбленную спину: он чувствовал, что Дзержинский разволновался и теперь будет долго и мучительно кашлять.
3
На товарищеский суд пришли все сотрудники ВЧК. Сначала говорил Орленко.
— Я виноват… Но не пойму одного. Как же это? Они в нас стреляют, а мы их и пальчиком не тронь?
В зале зашумели.
— Логика! — воскликнул молодой чекист Максимович, вскакивая с места, и заговорил горячо, отчаянно жестикулируя. — Лично я не стал бы наказывать нашего товарища из-за диверсанта. Прочь гуманизм, когда передо мной враг!
— Не слыхал я такого слова… — неуклюже поднялся со стула чекист Голубев. Он незадолго до этого пришел работать в ВЧК прямо с завода, и было заметно, что все еще не может привыкнуть к окружающей обстановке. — Заковыристое такое… Максимович тут сказал…
— Гуманизм! — весело крикнул кто-то.
— Во-во, — обрадовался Голубев, — гуманизм. Ну а вот что такое закон — знаю. Советская власть его утвердила? Точно! И сам Владимир Ильич как учит? От закона — ни на шаг. Правильно я рассуждаю?
— Правильно! — раздались голоса.
— Ну так чего еще надо? — почувствовав поддержку товарищей, продолжал Голубев. — По закону поступил Орленко? В глаза ему скажу: не по закону, хоть он самый мне лучший друг. Вот и весь гуманизм…
К столу быстрыми шагами подошел Дзержинский. Глаза его горели, худые щеки запали еще сильней, от больших выпуклых надбровий к носу спустились жесткие, упрямые складки.
— Товарищи! — начал он глуховато. — Конечно, границу перешел враг. Стрелял, сопротивлялся. И мы вправе обрушить на него наш пролетарский меч. Мы не слюнявые интеллигентики, не толстовские непротивленцы. Изменников, диверсантов, вражеских лазутчиков будем уничтожать беспощадно. Но, — Феликс Эдмундович сделал резкий жест, как бы подводя итог сказанному, — незаконных методов следствия не допустим. Добиваться правдивых показаний нужно неумолимой логикой, неопровержимыми фактами и уликами. Истеричности и издевательским хитросплетениям врага мы должны противопоставить стальные нервы и искусство наших чекистов. — Голос Председателя ВЧК звенел. — Наш следователь нарушил социалистическую законность. Поэтому мы и судим его сегодня. Орленко — боевой товарищ, верно. И я его не просто уважаю — люблю. Но мы должны помочь ему стать настоящим чекистом.
Дзержинский снова передохнул. Он слегка притронулся длинными тонкими пальцами к левой стороне груди, словно пытаясь сдержать учащенное биение сердца, и закончил:
— Помните, товарищи, каждого, кто нарушит советскую законность, добытую в огне революции, мы будем рассматривать как человека, посягнувшего на основы нового общественного строя!
Феликс Эдмундович сел, но тут же снова встал. Чувствовалось: он не сказал еще самого главного.
— Я должен подчеркнуть вот что. — Глаза Дзержинского загорелись ярче, что-то орлиное и вместе с тем доброе и чистое было в них. — Законность — это директива нашей партии, товарища Ленина. ВЧК никогда не нарушала партийных директив, она всегда была, есть и будет слугой и бойцом партии! И работать здесь может лишь тот, у кого холодная голова, горячее сердце и чистые руки!
— Правильно! Верно, Феликс Эдмундович! — взорвался гулом одобрения переполненный зал.
Слово предоставили Орленко. Он шел к столу и почему-то именно сейчас с особой болью вспомнил, как долго и надрывно кашлял Дзержинский тогда, в кабинете, и нестерпимая досада охватила его…
Когда Михайлов поставил на голосование предложение Голубева: вынести Орленко суровое порицание, взметнулся лес рук.