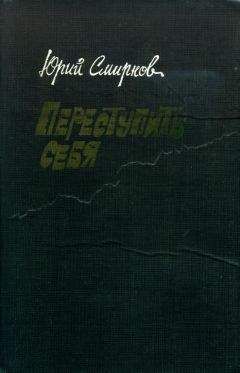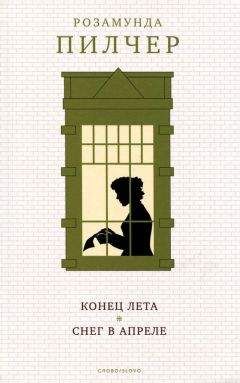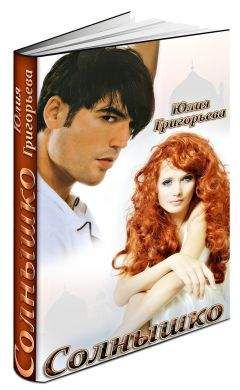Лезвие топора врубилось в грудь всадника, задев концом открытую шею. Всадник пустил изо рта длинную черную струю и сполз с лошади.
— Топор дюже хорош, — сказал обходчик. — Струмент дедовский.
И никто его не услышал: ни тот, кто стоял рядом и стирал с шашки кровь, ни те, уже далекие, кого мотало сейчас в насквозь продуваемой теплушке, ни Иван Елдышев, который звал его с собой, ни Сергей Гадалов, который лежал рядом с Елдышевым, баюкая перевязанную руку, ни Иван Багаев, стоявший в кабине паровоза, — никто его не мог услышать. Если бы эти люди оглянулись, они бы, возможно, увидели в степи огненный крест — жарко горит просмоленная плоть дерева! Но эти люди не оглядывались: что позади — то позади. А впереди снова горбился подъем, и Багаев, злой, напружинившийся, крикнул машинисту:
— Батя, сколько еще их на нашу долю?
Машинист подумал и хмуро нагадал, глядя во тьму:
— На мою долю два, а на вашу, сынок, как придется…
9
Состав с хлебом они привели в Астрахань ранним утром. Когда осталось совсем немного до Астрахани, Елдышев, выбрав минуту, обратился к Багаеву:
— Товарищ начальник, прошу совета.
— Давай, на советы я горазд…
Елдышев рассказал, что происходит в родном Каралате.
Багаев насупился.
— Ты же сам видишь, — сказал он, — ребят я собрал боевых, но ведь молодежь, пороху и не нюхала! А нам еще раз идти.
— Теперь понюхали, — тихо заметил Елдышев. — Потому и говорю: прошу совета, а не прошу отпустить. Где мне быть нужнее? Душа у меня неспокойна. О порохе мы заговорили… Я в Каралате целую бочку его оставил, и фитилек рядом.
— А почему сразу мне не сказал?
— Хотел, да не решился… Я военный человек, Иван Яковлевич.
— Тоже резонно… Вряд ли бы я поверил тебе сразу-то. А теперь видел в деле — верю.
— Благодарю, товарищ начальник…
— Есть, значит, хлеб у кулачишек…
— У нас, Иван Яковлевич, не кулачишки, у нас исстари богатейшее село. — Елдышев рассказал о том, как весной семнадцатого года старик Точилин, спасая рыбные промысла от половодья, заваливал мешками с мукой прораны в валах. — Многолетние запасы у них. Ни сеют, ни жнут, божьи птички, а хлебом да снастью держат в узде нашего брата, ловца-сухопайщика. Без хлеба, Иван Яковлевич, на лов рыбы не выйдешь.
— Ладно, — сказал Багаев, — отпускаю. Я, признаться, глаз на тебя положил, думал забрать к себе в аппарат. Грамотных у меня мало, Ваня! — пожаловался он. — Протоколы пишут через пень колоду… Чтоб свой, преданный революции человек да еще и грамотный — это, брат, на вес золота. Как там Сережа Гадалов? Раненых навещал, а его среди них не видел. Оклемался?
— Да как сказать? Кисть вспухла, жар… Думаю, два звена от мизинца отнимут.
— Ничего, злее будет, — сказал Багаев. — Но пусть дурака не валяет! Чтоб был в теплушке для раненых! А то знаю его… Вознамерился, поди, скрыть и второй раз пойти с нами.
— Есть у него такая мыслишка, — улыбался Елдышев. — Эх, молодо-зелено… У всех, говорит, раны как раны, а у меня — мизинец…
— Вот-вот! Передай ему мой приказ и будь свободен, — сказал Багаев. Пожал руку Ивану, добавил: — Держи там крепче революционную линию, товарищ. Если что — сообщай, поможем.
По дороге к лазарету, в котором лежал дружок его Васька Талгаев, Иван забежал на базар Большие Исады, продал трофейные мозеровские часы. Купил пирог с требухой, кусок вареного мяса, фунт хлеба и фунт комкового сахару. Подсчитал остаток — хватило на фунт перловой крупы и пачку махорки. Крупой и махоркой дядьку обрадует… К Ваське его, как и в прошлый раз, не пустили, но сказали, что вчера он поднялся и сидел на койке. Иван передал через нянечку продукты, записку и, радостный, что друга не сожрал тиф, выскреб из карманов все, что оставалось в них, нанял извозчика и покатил на Форпост. Здесь ему повезло — нашлась оказия. Ночью он уже стучал в дверь землянки, с замиранием сердца ожидая дядькиного голоса. И скрипнула внутренняя дверь, и явлен был родной голос, и отлегло от тревожного сердца…
— Живой? — тормошил дядьку Иван.
— А что с нами сдеется? — сонно отвечал дядька. — Ваня-а… Табачку не промыслил ли?
И от этого сонного теплого голоса, от влажного, живого дыхания единственного во всем белом свете родного ему человека стал Иван счастлив… Торопясь, нашел дядькину руку, вложил в нее пачку махорки.
— Мать родная! — возликовал Вержбицкий, заядлый курильщик. — Целая пачка!
Ах, дядька, дядька! Пень бесчувственный…
10
У старика Григория Точилина, к которому экспроприационная комиссия пошла на следующий день после возвращения Ивана, не семья была — род. Шесть сыновей, старшему из которых, Никите, было за пятьдесят, семь женатых внуков, правнуки и правнучки — иных женить и выдавать замуж уже пора. Старик никого не отделял, лишь построил для сыновей и старших внуков дома рядом. Столовались вместе, общий расход шел из рук старика и доход в его руки. Когда Елдышев с товарищами вошли в горницу, Точилины сидели за огромным, как поле, столом, завтракали. Из трех кастрюль на столе и увесистых кружек парил круто забеленный калмыцкий чай, запах свежевыпеченного хлеба сминал мысли… Иван быстро и обеспокоенно глянул на Мылбая Джунусова. Тот держался молодцом, лишь на глаза пал туман…
— Гляди-ка на них, — сказал Григорий Точилин, восьмидесятилетний, крепкий телом и хищный разумом старик, — выставились, гостенечки дорогие, комиссары голож… Бабы! Все с печи на стол мечи, а то сами по загнеткам будут шуровать, обожгутся ишо… У них, у комиссаров, манера такая — первым делом пожрать на дармовщину.
Старик набивался на скандал, это было ясно. Шум нужен был старику, свалка. Сыновья и внуки угрожающе поднимались из-за стола — все сытые, краснорожие… Андрей, сын Ерандиева, щелкнул затвором винтовки.
— Отставить! — приказал ему Иван и сказал Джунусову, жалея его сердцем: — Сходи, Мылбай, приведи трех понятых.
Джунусов глядел на него туманными глазами.
— Трех понятых, — показал Иван на пальцах. — Приведи.
Мылбай наконец осмыслил сказанное, вышел. На лицо старшего Ерандиева было страшно смотреть. Да и сам Иван чувствовал, что такой ненависти у него не было даже к немцам. С немцами он вместе со своей ротой однажды братался в окопах… С однокровниками Точилиными его не побратает и смерть.
Излишков хлеба, скота и мануфактуры у Точилиных не оказалось. Продуктовая лавка и лабаз старика тоже были пусты, а полки вымыты и выскоблены, словно в насмешку. Обыск закончили к вечеру. Иван на что был крепкий парень, но и его пошатывало.
— Мы, — сказал Точилин, под одобрительный смешок своих потомков, — комиссарам завсегда рады. Захаживайте при случае ишо раз.